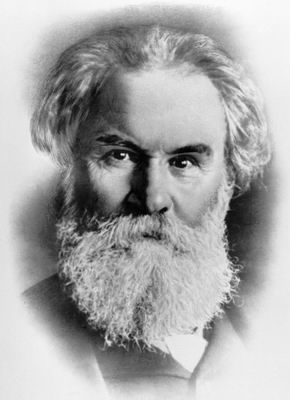Глазами маленького человека или записки обывателя
- Подробности
- Просмотров: 40120
Шапаровский А. М. Глазами маленького человека или записки обывателя.
Мемуары воспитанника Петровского Полтавского кадетского корпуса Александра Митрофановича Шапаровского (1897-1971) написаны им в конце 50-х — начале 60-х годов XX столетия. Оригинал рукописи хранится в семье сына Александра Митрофановича — Анатолия Александровича Шапаровского. Перевод мемуаров в электронный формат осуществлен Ириной Владимировной Шапаровской, внучкой Георгия Митрофановича Шапаровского — брата Александра Митрофановича.
Семья Шапаровских тесно связана с историей Петровского Полтавского кадетского корпуса.
И глава семьи, отставной генерал-майор Митрофан Андреевич Шапаровский, и все его сыновья закончили ППКК:
Митрофан Андреевич — в 1869 году;
Андрей Митрофанович — в 1908 году;
Владимир Митрофанович — в 1910 году;
Николай Митрофанович — в 1913 году;
Александр Митрофанович — в 1914 году;
Сергей Митрофанович — в 1916 году;
Георгий Митрофанович — в 1918 году.
Публикуемая часть мемуаров посвящена пребыванию Александра Митрофановича в корпусе и жизни в Полтаве в начале XX столетия. Поражает память автора. Несмотря на то, что мемуары написаны более чем через сорок лет после описываемых событий, читатель не найдет, за редким исключением, ошибок в именах и событиях.
Комментарии в квадратных скобках и подстрочные комментарии составлены автором сайта.
Полное или частичное использование публикуемых мемуаров возможно только с письменного разрешения семьи Шапаровских.

Глазами маленького человека или записки обывателя
Живя в современном обществе, я, в сущности, являюсь не оригиналом, а просто говоря, выродком и вот почему:
Я за всю жизнь не слыхал пения жаворонка и даже не видел этой птички, если не считать испеченных из теста, которые в детстве олицетворяли начало весны.
Я ни разу не починил примуса, не исправил проводки, когда прекращало гореть электричество, не отремонтировал ни одного стула (хотя переломал их не мало).
Я ни на кого никогда не донес ни учителям, ни начальству, вообще никому.
Я никогда не увлекался спортом, да и, говоря откровенно, вовсе им не занимался.
У меня вечно с молодых лет что-нибудь, где-нибудь болело, и я не представлял себе, что значит быть здоровым полноценным человеком.
Я никогда не состоял ни в какой партии, не был комсомольцем и даже пионером.
Многое еще я никогда не знал, не делал и не понимал.
Ну, разве это не достаточно, чтобы быть выродком?
Почему воспоминания писали и пишут только выдающиеся люди или, по крайней мере, много видевшие, игравшие какую-то роль в государственной общественной литературной жизни, словом, так или иначе, замечательные люди и, во всяком случае, мнящие себя таковыми. А вот мемуаров просто человека, ничем не примечательного в принятом смысле этого слова, не имеется. Может быть, их просто не печатают? Или они не интересны и об их существовании никто не знает?
Я никогда не сделал сознательной подлости ни одному человеку, вернее, никому не сделал зла, хотя был много раз причиной этого.
Я боюсь один оставаться в квартире, пусть со мной будет хоть 3-х годовалый ребенок, тогда все в порядке.
И всё-таки, дети, в моей жизни, в моих наблюдениях за происходящим в ней было немало интересного, о чем стоит вам рассказать.
Мне 2 года. Тёмный коридор, тусклый свет, вероятно, от маленькой керосиновой лампочки. Тётя Лиза, младшая сестра отца, ведёт меня не то за чем-то в кладовую, не то в уборную и говорит ласковые слова. Харьков, 1899 год. Это моё первое оставшееся в памяти воспоминание.
Дергачи, дачное место под Харьковом. Крыльцо дома, выходящее в сад, недалеко высокая ограда и за ней другой сад. Это, мне сказали впоследствии, сад соседей – Олешко. Вот-вот разразится гроза. К крыльцу подошли, калитка на улицу рядом, цыгане. У них медные тазы в руках, что-то ещё. Размахивают руками, громко говорят, мама им отвечает. Блеск молнии. И все. Но мне уже 3 года, и впечатление более яркое.
А дальше маленький городок бывшей Курской губернии – Щигры. Здесь впечатлений больше, воспоминания определённей, уже есть связь событий. Мы, мои братья, сестра Наташа и я ходили гулять за город. Пассажирский поезд, паровоз с красными колесами, солнечные блики на них, окна вагонов. Ласковые взгляды пассажиров, смотрящих на нас. Куда они едут? Почему улыбаются? А пройдет поезд – и на душе грустно становится.
С тех пор я полюбил поезда. И до сих пор проходящий состав вызывает во мне где-то отложенные неясные воспоминания, неопределенное стремление в дали и легкую дымку несбывшейся мечты.
Я не так давно проезжал из Воронежа в Киев через Щигры. Станции нет, и, хотя после войны прошло больше 10 лет, новый вокзал не строился.
Пытливо всматривался в оставшиеся в памяти места, стремясь восстановить детские впечатления, но изменилась ли местность или другое что помешало, – я не узнал родных полей, перелесков.
Жили мы в Щиграх сначала на квартире в доме Петровского, а потом в доме Редькина. У Редькиных был большой сад, обнесенный высоким забором. Хозяева не мешали нам играть в саду, даже не запрещали лазать по деревьям. Старшие братья – Андрюша, Володя, Коля и сестра Наташа придумали занимательную игру. Изображали путешественников в дебрях Южной Америки. Игра была навеяна книгой "Путешествия молодого натуралиста". Автора я забыл, да и название мне сказали позже, а имена героев запомнились твердо: Люсьен (мальчик), Самикрас, Энкурадо (индеец), и "я", т.е. лицо, от имени которого велось повествование. Меня не занимали в игре. А когда, обиженный, я плакал, братья говорили: "Ну, не реви, будешь обезьяной". Это приводило меня в восторг.
Где бы достать сейчас эту книгу! Все знают, что аромат цветов, духов, вообще запахи позволяют ясно и полно воспроизвести в памяти давно забытые лица, события, связанные со знакомыми запахами. Но не в меньшей мере восстанавливают для меня картины давно прошедшей жизни страницы читанной когда-то книги, после длительного промежутка времени вновь попавшей в руки.
Перечитывая уже на склоне лет "Принца и нищего" или "Школьных товарищей" Д’Амичиса, я не смог сдержать слез, и совсем не в тех трагических или грустных местах, где талантливые авторы сгущали краски, а просто потому, что картины моего детства, той поры, когда читались впервые эти книги, вставали передо мной, как живые.

М. А. Шапаровский. 1880-е г.г.
В Щиграх семья наша жила скромно. После Варшавы, службы в гвардии, отцу нелегко было работать на железной дороге, занимая далеко не высокие должности. Начальник станции Дергачи, потом Щигры… Личная его жизнь, как говорили – карьера, кончилась. Все мысли, желания были направлены на наше воспитание, на создание для нас здоровой физически и морально обстановки. Уже при жизни в Щиграх старший брат Андрюша был определен в Сумской кадетский корпус. Отец имел право определять сыновей в эти учебные заведения на казенный счет. Это было просто спасением для семейного бюджета.
Редкие гости навещали нас в Щиграх. Помню старичка Ивана Андреевича. Не знаю, чем он занимался в то время, но поговорить любил и много читал. Как говорили, это был некогда богатый человек, с не менее богатым революционным прошлым. Теперь он жил "на покое". Бывало, рассказывает что-то, очевидно, интересное, отец и мать слушают, а мы, детишки, один за другим начинаем клевать носом. Я улягусь за маминой спиной на диване, и чудятся мне какие-то сказочные образы страшных существ, нападающих на молодого храброго героя, а герой этот – Иван Андреевич. Он побеждает злых духов и громко кричит: "Хорошо, когда первая рюмка пройдет, и нехай мине Марья еще поднесет". Марья – это наша домработница, прислуга по-тогдашнему. Я освобождаюсь от своей дремоты, подымаю голову и вместо страшилищ и героя вижу доброго веселого старика с удовольствием пьющего уже далеко не первую рюмку. Папа тоже пьет, мама хмурится и велит нам укладываться спать. Когда папа был болен, Иван Андреевич приходил каждый вечер и, сидя у папиной постели, читал вслух. Особенно любил Иван Андреевич Чехова. Впоследствии у нас в семье вспоминали: "Чехов показывает в своих произведениях, как не надо жить, но как надо, он и сам не знает", – говорил старик о творчестве Антона Павловича.
Бывал у нас и другой знакомый – Костя Крамской. Это был еще молодой человек. Приходил он, как мы почему-то считали, из какой-то черной местности, говорил о каких-то совершенно непонятных для детей предметах. У него была чахотка, он нас не целовал, а так ласково гладил по головке и давал конфет. Больше я о нем ничего не помню, но образ молодого, серьезного, хорошо одетого человека с задумчивыми карими глазами до сих пор сохранился в моей памяти.
В начале нового столетия папа получил назначение в Полтаву начальником товарной станции*. Он был очень доволен. В шестидесятых годах папа учился и закончил в Полтаве кадетский корпус. В этом городе жила его двоюродная сестра – тетя Наташа, как мы ее звали. И у мамы в Полтаве была двоюродная сестра – тетя Женя. Семьи наших двоюродных теток были в большой дружбе друг с другом. А самое главное для отца было то, что мы – сыновья, сможем учиться в корпусе в своем городе, а не уезжать от семьи. Едем во ІІ-м классе, вагоне, окрашенном в желтый цвет, с мягкими диванами. С нами до Полтавы едет провожающий – Митрофан. Это железнодорожник, кажется, стрелочник с чуткой, любящей детей душой. В Курске была пересадка. Мы ходили с Митрофаном по станционному поселку. Как лучшая няня, он развлекал нас, покупал дешевые конфеты, какие-то особые шоколадки с передвигающимися на обложке картинками. Милый Митрофан – простой хороший русский человек.
![]()
* В "Адрес-календаре и Справочной книжке Полтавской губернии на 1903 год" отставной полковник Митрофан Андреевич Шапаровский указан магазинером коммерческой службы Управления Харьково-Николаевской казенной железной дороги.
В Ворожбе ночью к нам присоединился брат Андрюша, отпущенный из Сумского корпуса на рождественские каникулы. Он подарил мне маленького металлического слоника. Я был очень доволен, но, подъезжая к Полтаве, где-то затерял его и все требовал, чтобы мне дали другого.

Фотография из семейного архива Шапаровских. Кто изображен на
фотографии - неизвестно.
За забором видна колокольня Спасской церкви. Фотография сделана в период с 1902
по 1909 год.
И вот, в конце 1902 года мы в Полтаве. Прожив некоторое время в городе на Дворянской улице, кстати, более чем на 30 % заселенной бедняками, ремесленниками, мы обосновались на казенной квартире в центре багажных строений товарной станции.
Побывав в Полтаве много лет спустя в 1957 году, я, не отрываясь, смотрел в окно поезда Киев-Полтава. Поезд, приближаясь к ст. Полтава - Южной ж. д. дороги, проходил, как и прежде, мимо товарной станции. Сердце билось учащенно, слезы готовы были политься из глаз, но… дома, родного, так памятного мне дома я не увидел. Может быть, его снесли за старостью, может, вражеская бомба разрушила, но его не было. Это был оригинальный дом. Длинное здание, с двух сторон переходящее в крытые площадки для склада товаров. В середине скучной, неказистой, но крепкой постройки возвышался второй этаж с шестью окнами на железнодорожные пути и с таким же числом окон на товарный двор. Каждая сторона имела по два больших окна, нормального городского типа в центре и по четыре уменьшенных. Центральные окна были в гостиной и столовой, а маленькие – в детской и спальной по одну сторону квартиры и в кухне и кладовой по другую.
Тетя Наташа еще до нашего приезда по поручению отца приобрела нам мебель. Мы очень обрадовались, увидев в гостиной плюшевый гарнитур, так как старая мягкая мебель была продана в Щиграх. Наши любимые вещи – еще купленные в Варшаве – столовый стол, стулья, тумбочки и другие предметы прибыли, пока мы жили на Дворянской, и теперь, как старые друзья, встречали нас в новой квартире.
Сколько радости доставляли нам проходящие мимо поезда. Конечно, мы особенно любили пассажирские. Их было пять пар в день – три харьковских и два киевских. Мы знали, когда, какой и в каком направлении пройдет поезд, и летом всегда старались выбежать на высокую деревянную платформу, служившую как бы тротуаром перед нашим домом. Красавец харьковский проходил совсем близко, по второму пути, киевский мы не так любили – он шел по пятому пути, и лица пассажиров были не так четко видны.
Еще больше я полюбил поезда, железную дорогу, гудки паровозов. И сейчас с удовольствием вдыхаю запах угля, смазки колес, люблю ездить по железной дороге.
Летом мы часто гуляли в окрестностях Полтавы. Замечательные леса росли недалеко от станции. Гористые дороги, живописно расположенные на холмах деревни, чистенькие хаты с вишневыми садами, огороженными плетнем, глубоко запечатлелись в душе мальчика. В те годы крестьянские волнения были нередким явлением в жизни России. И в Полтавской губернии беспорядки, как тогда говорилось, проявлялись часто, в резкой форме. А между тем, в памяти осталось ласковое гостеприимство местных крестьян, ласковое обращение с нами – детьми, одетыми по-городскому, говорящими по-русски, да еще во главе со старшими братьями кадетами. Нас угощали варениками, гречаниками, поили холодным сырым молоком. Как-то Андрюша, поблагодарив за угощение, положил на стол деньги. Хозяйка обиделась: "Що цэ, хлопчики, так не треба, кушайте на здоровьячко". На выходе из одной деревни, под горой, приткнулся глубокий старик; он был слеп. Играя на кобзе, слепец пел сиплым голосом заунывные песни. История много перенесшего украинского народа, простота и величие запорожской сечи, думы о воле складывались под самобытные грустные звуки кобзы. Мы долго стояли, слушая певца. В детских сердцах зарождались чувства любви к родине, к ее героическому прошлому.
Какая прелесть – река Коломак, прорезающая поля и рощи под Полтавой и где-то вблизи впадающая в Ворсклу. В отдельных местах деревья противоположных берегов Коломака соединяются своими кронами, создавая густой шатер. Всегда свежо и таинственно в этих речных коридорах. Плывешь в челноке с кем-либо из старших, и, кажется, конца не будет; становится страшно, но вот яркий свет и голубое небо сгоняют темноту и зеленую крышу. Чистый песчаный берег. С одной стороны кустарник, с другой – открытые поля. Вода кристально чистая. Здесь мы купаемся. Недаром место облюбовал архиерей; оно так и называлось "архиерейским", и крестьяне здесь не купались, говорили, что и на челноках не проходили. А дальше опять густые заросли леса, и Коломак вьется, резко меняя направление.
Давно не видел я этих мест, но и сейчас возникают отраженные памятью картины – вновь испытываю радость и наслаждение от неповторимости облюбованной в детстве красоты природы. Невольно воскликнешь, подражая Гоголю: "Как хороши и разнообразны места под Полтавой!"
В раннем детстве я любил купаться, воды не боялся. Но все изменилось. С некоторых пор я инстинктивно боюсь воды, и не так страшно за себя, как волнуюсь за своих близких. Вот откуда пошел этот страх.
Ворскла – историческая река, уже в годы моего детства местами была узкой, обмелевшей. Но в том месте, где мы летом купались, сохраняла вполне достойный ее истории вид. Широкая, полноводная, с красивыми берегами. Как-то раз, придя на свое обычное место, мы были удивлены большим скоплением народа на противоположном высоком берегу. Среди собравшихся людей большинство составляли женщины, крестьянки. Раздавались крики, громкий плач. Запомнился непрерывный крик пожилой украинки, изредка перестававшей голосить на одной ноте, чтобы судорожно выкрикнуть несколько слов "на что мне кресты золотые, мониста…" – и снова жуткий однообразный, далеко плывущий по воде звук. Это была несчастная мать утонувшей за несколько минут до нашего прихода молодой девушки. Говорили, что утопленница вместе с подругами разделась и не сошла спокойно в речку, как другие, а бросилась с берега, нырнула и больше из воды не появлялась. Подруги заметили ее отсутствие, ныряли, искали, потом стали кричать, сбежалось много народу, невдалеке работавшего в поле. Приплыла спасательная лодка. Матрос вскоре отказался искать. Вероятно, он видел безнадежность поисков. Место у берега было глубокое, с круговоротами и ямами. "Это не мой участок", – и уплыл на своей лодке. Время шло, мы напряженно глядели на поверхность реки. Прибыла вторая спасательная шлюпка. Поискав утопленницу, лодочник сказал: "Уже поздно, да и надежды никакой нет". Оделся и исчез. Смеркалось. Вода темнела. Казалось, она поглотила жертву и не хочет ее отдавать. Народ начал расходиться. Пошли и мы. Крики затихли, и только отчаянный, жуткий в своем трагическом однообразии не то стон, не то вой убитой горем матери долго еще достигал моего слуха. Я не плакал, но несколько дней пролежал в постели, был болен, и все мне представлялась утопленница и отчаяние матери.
Я перестал любить воду и стал бояться ее.
Как и все старшие братья, я начал учиться читать с шести лет. Учила нас мать. Отец был занят на службе, часто не был дома и вечерами. После резкой перемены в жизни – полковник гвардии и мелкий железнодорожный служащий, он, честный, мужественный и беззаветно любящий родину и семью, человек, временами и все чаще стал пить. К несчастью, мы, дети, нередко видели его в нетрезвом виде. Мама плакала. Во всех спорах между родителями я принимал сторону мамы. Ничего не понимая по существу, я глубоко страдал, и однажды, когда отец очень сердился на маму, я подошел к нему и сказал: "Зачем вы кричите на маму, не надо". Папа взял меня за руку, крепко сжал, и, хотя нас никогда не только не били, но и шлепки доставались нам только в младенческом возрасте, я испугался. "Ты прав, сынок, прости меня". Я зарыдал и долго не мог успокоиться. С тех пор я жалел не только мать, но и отца, и, пожалуй, впервые почувствовал, как люблю его. Каждый месяц отец ездил в Харьков, где почему-то (а не в Полтаве) он получал пенсию по военной службе.
После описанного мною случая отец взял меня с собой в Харьков. Был хороший летний день. Помню, как я с наслаждением уничтожил две порции малинового мороженого в одном из уютных летних садов Харькова. Потом мы где-то вкусно пообедали. Шумный, оживленный город мне очень понравился. В прекрасном магазине купили конфет для Полтавы, в другом, не менее великолепном, мне примерили новые ботинки и уложили их в коробку. В тот же день вечером мы вернулись в Полтаву. Как я гордился перед братьями поездкой с отцом и, конечно, своими ботинками!
Наступил 1904 год. Подлое, разбойничье нападение японцев на наш флот в Порт-Артуре послужило началом русско-японской войны.
Мне не было еще полных 7 лет, но это событие так живо отпечаталось в памяти. Взрослые только и говорили о войне. "Шапками закидаем", – это не только взятое из литературы о том времени выражение. Я хорошо помню, как помощник отца по службе некто Романов, указывая на карте Японию, уверенно говорил эти слова. Отец думал иначе. Он сразу как-то переменился, перестал пить, часто задумывался, грустно смотрел на нас. Прошло немного времени, и мы узнали, что отец идет на войну. Гордость и радость вызвало в нас, особенно в братьях – кадетах – это известие. Ведь ужасы войны, тяготы разлуки с близкими не доходили до детского сознания.
Еще до получения ответа на поданное отцом прошение о зачислении его в действующую армию (будучи в отставке, он не подлежал мобилизации, к тому же железнодорожников на войну не призывали), в Полтаве ждали приезда царя. Он объезжал все города, гарнизоны которых предполагали направить на Дальний Восток.
Наши 33-ий и 34-тый Елецкий и Севский полки и 9-ая артиллерийская бригада готовились к отправке в далекую Маньчжурию.
День прибытия в Полтаву царского поезда железнодорожникам был хорошо известен. Знали и час прихода поезда. Отец, старый офицер, воспитывавший нас в духе любви к родине, в духе гуманности, во многом державшийся демократических взглядов, по своим политическим убеждениям был монархист. Слово "царь" у нас в семье было овеяно ореолом величия, символом славы России, чем-то почти божественным.
И вот нас одели по-праздничному, дали в руки каждому по букету ландышей и вывели на платформу перед нашим домом. Платформа, вернее, деревянный настил, возвышалась над железнодорожными путями. До второго пути, на котором ожидался приход царского поезда, было метров семь-восемь, не больше.
Отец в военной форме, затем мать и мы по старшинству, следовательно, по росту, встали в линию, чтобы приветствовать царя. Он должен был, как считал отец, непременно смотреть в окно и, конечно, в нашу сторону. По всему протяжению пути, а может быть, от начала железнодорожного узла до станции Полтава Пассажирская были расставлены солдаты. Они стояли на некотором расстоянии друг от друга спиной к путям. Против нашего дома был один из этих постов. Когда мы пришли и выстроились, солдат потребовал нашего ухода. Однако отец настоял, чтобы мы оставались. Уж очень не опасными, вероятно, показалась ему наша семья, включая трехлетнего брата Юрочку.
Прошло некоторое время. На пятом или шестом пути показался поезд. Он тихо проследовал перед нами. Но это не был царский поезд. Дело в том, что при передвижении царя по железной дороге в пути шли два состава – царский и какой-то служебный. Один из них шел впереди, другой сзади; иногда первым приходил основной, иногда – служебный.
Вскоре на втором пути, совсем близко от нас, показался и медленно стал проходить второй поезд. У открытых окон одного из вагонов стояли Николай ІІ и бывший в то время наследником брат царя Михаил Александрович. Увидев нас, Николай улыбнулся и сделал приветственный жест рукой. Поезд прошел. Мы были в восторге. Стоявший в охране солдат приветливо кивнул нам головой.

Прибытие Государя Императора в Полтаву. 5 мая 1904 г.

Государь Император благословляет войска, отправляющиеся на фронт
Забегая вперед, я расскажу вам, дети, о двух других случаях "встречи" с последним царем.
Был 1909 год. Полтава длительно готовилась к празднованию 200-летия со дня исторического события – Полтавской битвы.
В последующем изложении я постараюсь описать юбилейные дни, торжества, организованные в ознаменование великой победы.
Сейчас я остановлюсь только на второй встрече с царем. 27-го июня был торжественный парад на поле битвы. Хотя в параде участвовала только старшая 1-ая рота кадетов нашего корпуса, остальные все же присутствовали как зрители. И тут я издали вновь увидел царя. Парад-Войска проходили перед ним церемониальным маршем. Мое внимание главным образом было обращено на красивое зрелище прохождения полков и эскадронов.
|
|
На следующий день Николай ІІ несколько часов уделил нашему корпусу. Смотрел на плацу гимнастические упражнения кадет, слушал музыку духового оркестра и ансамбля балалаечников. Кроме семей офицеров корпуса, было много приглашенных, главным образом, из свиты царя, прибывшей из Петербурга. В заключение праздника весь состав корпуса прошел под звуки Преображенского марша поротно и колонной перед царем и его свитой. Мы считали, что на этом все кончилось. Но неожиданно директор объявил, что сейчас будем фотографироваться группой вместе с царем. Царь с великим князем Константином Константиновичем сели на принесенные стулья, а мы, 500 кадет, бросились занимать места возле них на траве. Мне было всего 12 лет. Я продолжал обожать царя. Но странное дело, когда я со всех ног бросился занять место поближе к монарху, руководила мной не так любовь к царю, как тщеславное желание быть на фотографии ближе к царю, чем другие кадеты. Мне удалось устроиться совсем близко, но я был "наказан" за свое тщеславие. Пока все усаживались, размещались, Николай ІІ рассматривал публику, семьи воспитателей, учителей, делал вслух какие-то малозначащие замечания. И вдруг, остановив внимание на очень интересной даме, жене воспитателя фон Кнорринга – Нине Викторовне, он посмотрел на меня и другого кадетика, расположившихся почти рядом с ним: "Кто эта дама?". Увы, я в свои 12 лет не интересовался красивыми дамами и, смутившись, не знал, что ответить. Сосед мой тоже не удовлетворил любопытство императора. Ответ дал, сияя лицом, стоявший несколько далее шестиклассник с пробивавшимся пушком на верхней губе.
Конечно, мне было неприятно, что я не ответил на вопрос царя. Но важно не это. Где-то в глубине души остался осадок, еще не осознанный в моем возрасте, но, однако, безусловно, повлиявший на потускнение ореола царя в последующие годы. В самом деле, неужели у него не было какой-то более подходящей темы для разговора с нами, не было ласковых "царских" слов для обращения к обожавшим его детям. Не любования интересными дамами ждали мы от императора, окружив его тесным кольцом и восторженно глядя ему в лицо.
Когда после каникул мы вновь собрались в корпусе, во всех залах каждой роты висели обрамленные группы кадет с высокими гостями в центре.
1915 год, май месяц. Наши войска почти без снарядов, подчас с одной винтовкой на несколько человек, отходили из Галиции, оставляя город за городом. Давая возможность армиям юго-западного фронта отойти в относительном порядке, арьергардные части задерживали наступавшего противника, переходя в контратаки. Герои гибли под массированным артиллерийским огнем, под пулеметными очередями. Тяжелое время переживала Россия.
В третий раз Николай ІІ прибыл в Полтаву.
Я, год тому назад кончив кадетский корпус, готовился к осеннему конкурсному экзамену в Институт Инженеров Путей Сообщения в Петрограде. Желая несколько помочь матери, я имел частные уроки, репетируя отстающего кадета 4-го класса. С тяжелым чувством на сердце, думая об общем положении на фронте и о судьбе братьев, из которых двое были в Галиции, я шел на урок по тихой Дворянской улице. Углубившись в свои невеселые мысли, шагал я, не торопясь к дому своего ученика. И вдруг со стороны главной улицы Полтавы – Александровской – слышу шум, крики "ура". Сначала я не мог сообразить, в чем дело. – "А! Ведь сегодня царь приезжает к нам" – вспомнил я и, имея в запасе время, свернул в боковую улицу и вскоре был уже на Александровской. Толпы людей, преимущественно приказчики центральных магазинов, чиновники и служащие учреждений, неопределенная молодежь, домашняя прислуга заполнили тротуары и палисадники перед ними. Царь еще не проезжал. Влекомый любопытством, желая лучше рассмотреть некогда обожаемого монарха, я пробился сквозь гущу ожидавших обывателей до самого заборчика, отделяющего газон от мостовой.
Крики "ура" то вспыхивали, то затихали. И вот со стороны Кадетского сада показались два открытых автомобиля. В переднем сидел царь и еще кто-то, – не помню. Прикладывая руку к козырьку, Николай время от времени поворачивал голову то направо, то налево. Машина шла медленно. Я в упор разглядывал монарха. Он как-то не то, что постарел, но опустился. Лицо было бесцветным, глаза выражали усталость и скуку. Ничего царственного не было в его облике.
Крики "ура" усилились. Но, как показалось мне, носили характер сухой, формальный. Не было и тени выражения любви народа к своему обожаемому "царю-батюшке".
Автомобиль проезжал. Люди минуту, другую стояли, как бы ожидая чего-то, а потом медленно расходились. Некоторые бежали по тротуару в направлении прошедших машин.
Я выбрался из толпы и свернул по своему пути. На душе было грустно. Бесследно исчезли остатки бывшего когда-то детского светлого чувства любви к государю.
* * *
Я уже упомянул, что все дети у нас в семье начинали учиться читать и писать с шестилетнего возраста и даже несколько ранее. Кроме русской грамоты, мы учили и французский язык, но только разговорный. Занималась с нами мама. Мама имела достаточно знаний, чтобы не только подготовить нас к поступлению в учебное заведение, но помогать нам учить заданные уроки, а иной раз написать за кого-нибудь сочинение или решить алгебраическую задачу. Мать моя родилась в 1862 году, ровно через 10 лет после рождения отца. Родом она из дворянской семьи Дренякиных. Отец матери, мой дед, в чине полковника лейб-гвардии Измайловского полка вышел в отставку и жил в своем небольшом имении "Подбелевец" в Мценском уезде Орловской губернии. Там родилась и моя мать. Прадед мой по материнской линии был также офицером, под командованием великого русского полководца Суворова он участвовал во взятии считавшейся неприступной крепости Измаил. В этом историческом штурме он потерял руку. Мать училась в Орловском Институте Благородных Девиц. Кончила институт с золотой медалью. Знала французский и немецкий языки, хорошо играла на рояле. Такой душевной чистоты, благородства, способности стойко, мужественно переносить лишения и тягости жизни, такого ровного характера, любви к семье, самоотречения от личной жизни, благожелательного отношения к окружающим и к людям вообще – я больше не встречал в жизни. Мы все отвечали матери такой же любовью, но сколько же огорчений и тяжелых минут доставляли мы нашей матери! Как, подчас, страдая сами, мы причиняли ей горе!
Я был мальчик довольно спокойный. Учение давалось мне легко. Уже в семь-восемь лет я самостоятельно читал книги, конечно, детские. В семейной фотографии в память отъезда отца на войну я снят с развернутой книгой в руках с серьезным взглядом в объектив аппарата.
В возрасте 8-10 лет я прочел "Принца и нищего", "Школьные товарищи" Д’Амичиса (моя любимая книга), "Маленький зуав" или "Исидор зуав" – точно не помню заглавия, но содержание из времен франко-прусской войны, "Без семьи" Мало (прелестная книга, большую ее часть нам читала вслух мама), рассказы и повести из журналов "Светлячок", "Путеводный огонек", "Вокруг света", повести, конечно, не все знаменитых авторов, в то время весьма сентиментального характера – Чарской и Клавдии Лукашевич и немало других книг.
Старшие братья Андрюша и Володя, бывшие в то время в 5-м и 4-м классах корпуса рассуждали о героях Дюма, преимущественно о 3-х мушкетерах, но нам, младшим, эта литература запрещалась. А старшие любили подразнить нас и показать свое превосходство над малышами. Как часто бывало, позовут нас и начнут болтать всякий вздор, вставляя в не имеющие смысла фразы имена "Атос", "Портос", "Арамис" и другие. Мы ничего не понимали, они смеялись.
Наша жизнь резко изменилась с отъездом отца на Дальний Восток. С железной дорогой нас уже ничто не связывало. Семья переехала в город на частную квартиру. Небольшой дом, половину которого занимали владельцы дома Плисовы, был типичным для расположенных далеко от центра города зданий. При доме был большой двор с палисадниками, утопавшими в сиреневых кустах и цветочных клумбах, за двором шел довольно большой фруктовый сад. Были во дворе сараи, погреб, набиваемый ранней весной льдом, и другие постройки. Такая усадьба для детей была просто раем. Играть на улице нам даже в голову не приходило. А улица (новопроектированная) была тихая, не мощеная, заросшая травой. Тротуары деревянные. На углу улицы, выходящей на Сенную площадь, помещалась бакалейная лавочка. Чего только там не было! Конечно, нас завлекали копеечные маковники, турецкие сласти, рожки, семечки и другие любимые детьми лакомства. Как были мы счастливы, располагая 2-мя–5-ью копейками! Это был настоящий праздник!
В квартире было 5 комнат – гостиная, столовая, кабинет, мамина спальня, где спали мама с сестрой Наташей и младшая сестренка Верочка и, наконец, наша комната – детская. Верочка родилась за год до отъезда отца на войну, она была младшей в семье. Мальчиков, кроме Коли и меня, было еще двое – Сережа и Юра. Мы, несмотря на разницу в возрасте, были очень дружны. Наташа держалась несколько в стороне, училась в гимназии, имела своих подруг, свои интересы.
Дружба была у нас и со старшими братьями. Никогда не могу забыть, как во время моей болезни Володя, придя в субботу из корпуса в отпуск, принес мне бантики с бубенцами, которые выдавались танцующим во время мазурки, туалетное мыло розового цвета с оттиском бегущего оленя. Я был растроган. С тех пор я как-то особенно нежно полюбил Володю. Много событий в дальнейшей жизни связано у меня с братом Владимиром. Об этом, если удастся, расскажу вам, дети, позднее.
Дружил я больше всего, естественно, с братом Колей – он был по возрасту ближе всех остальных. Старший – Андрюша, держался как взрослый и с нами общался меньше. И странно, он оказался последним из братьев, с которыми я виделся, уже будучи еще не старым, но пожилым человеком. Все остальные в это время уже не существовали.
В годы русско-японской войны жила у нас двоюродная сестра Таня. Ей было лет 11-12. Обстановка, сложившаяся у ее матери, сестры отца, вынудила тетю Люду отправить Таню к нам на длительное время. Она была хорошенькой девочкой, по крайней мере, мне так тогда казалось. И я, 8-летний мальчик, влюбился в нее, конечно, насколько это применимо к ребенку. Я, как очарованный, слушал ее нежный голосок, любовался ее веселым личиком, хотел всегда находиться в ее присутствии. Я был уверен, что любовь моя навеки. "Когда я вырасту, я скажу ей о любви, а пока надо молчать". Она и не подозревала о моей влюбленности и в свободное от гимназии время занималась и играла с Наташей, с другими братьями, не обращая на меня никакого внимания. Хотя и по-детски, но все же сильно, испытывал я муки неразделенного чувства. Через несколько лет, когда она приезжала к нам на Рождественские каникулы, я вновь пережил чувство, похожее на любовь, к Тане, но с несколько иной окраской. Мне доставляло удовольствие коснуться ее руки, я был почти счастлив, когда она говорила со мной и хвалила за какой-либо поступок. Увы, при дальнейших встречах я не испытывал к ней ничего, кроме дружеского, братского чувства. А вот уже несколько лет, бывая в Москве, где она живет много лет (она работает педагогом и руководителем одного из театральных учебных заведений) я даже редко встречаюсь с ней. Вот история моей первой любви.
Мы часто получали письма от отца. Письма были длинные. Папа подробно писал о своих впечатлениях, переживаниях. Уже после смерти мамы я читал некоторые из этих писем. Они мне и сейчас кажутся весьма содержательными. В то время, прочитав письмо про себя, мама читала нам из них выдержки.
Как будто это происходило недавно, так ясно представляю маму, сидящую в кабинете за папиным письменным столом. Лицо грустное, а иногда улыбается. Вероятно, пишет о наших шалостях или успехах. Я бегаю перед окном в палисаднике, и нет-нет, да и взгляну на маму.
В материальном отношении мы жили в этот период значительно лучше. К нам пригласили для обучения немецкому языку учительницу – фрейлейн Клар. Приходила немка на несколько часов в день после обеда. С Наташей занималась особая фрейлейн – фамилия ее была Греер.
По субботам и воскресеньям Андрюша и Володя, приходя из корпуса, занимались с приходящим учителем – маэстро Линдсаром игрой на гитаре и мандолине. Сам маэстро играл на цитре. Расставаясь с нашей семьей, он преподнес на память ноты – романс своего сочинения для цитры "Мечта любви".
Самым значительным событием для нас была покупка прекрасного пианино фирмы "Шредер". Когда его привезли и поставили в гостиной, мама сыграла ряд пьес времен своей молодости. Помню "Пробуждение льва" Конского, шумки Завадского, вальс "Невозвратное время" и ряд других. Мы были в восторге.
Вскоре мама начала обучать с Наташей Колю и меня игре на рояле. Особых способностей ни у кого из нас не было, а лени, в частности, у меня, хоть отбавляй. В итоге не только музыкантов из нас не вышло, но даже мало-мальски прилично играть для интимного кружка, для самих себя мы не научились. Я неплохо читал ноты, обладал некоторою музыкальною памятью, но неряшливость в игре, неусидчивость и, повторяю, лень свели "на нет" все усилия мамы. Однако пользу эти занятия в течении ряда лет все же принесли. С детства я полюбил серьезную музыку, что доставляло мне много наслаждения в жизни, стал разбираться в игре пианистов. До покупки пианино, любя музыку с детства, я с восторгом слушал, когда к нам во двор заходили шарманщики со своим незатейливым репертуаром, бросал игры и наслаждался, слушая вальс "Ожидание", марш "Тоска по родине" и другие подобные вещи. А потом просил маму проиграть прослушанные мелодии на рояле, вновь переживая впечатления, полученные от шарманки.
Мы жили мирно и тихо. Война была далеко. Казалось, что скоро мы победим японцев, приедет папа, и жизнь наша пойдет еще лучше, не будет никаких тревог и волнений. Рассматривая в журналах изображения стычек и битв наших войск, преимущественно казаков с японцами, все мы не сомневались в наших успехах на Дальнем Востоке. И только большое число фотографий во всех периодических изданиях офицеров, павших в борьбе за Родину, офицеров, среди которых были и наши полтавские. Мы, особенно старшие братья, где-то в уголках души чувствовали тяжесть войны, видели какое-то противоречие с картинками о блестящих победах нашей армии и флота. Погиб "Петропавловск", и на нем подлинный герой России адмирал Макаров. Все наши взрослые стали говорить о тяжелом положении Порт-Артура. Пронеслась страшная весть о поражении под Ляояном… Тревожные настроения в какой-то мере охватывали и наши детские, восприимчивые к окружающей обстановке, сердца.
Кроме наших "фрейлейн", ежедневно проводивших с нами по несколько часов, посторонних лиц бывало в семье немного. Приезжала изредка тетя Женя (у нее одна нога была на протезе) со своей матерью – "бабушкой", как мы ее называли, бывали тоже нечасто, тетя Наташа с мужем Александром Ивановичем Четинкау, очень культурным стариком, лезгином по национальности. А то на день-другой наедет кто-нибудь из Екатеринославских родственников.
|
|
Чаще всего навещал нас сын тети Жени Костя. Константин Дмитриевич Папалекси был наш общий любимец. Кажется, не было никого, кто не любил бы нашего Костю. К.Д. в то время был молодым человеком 23-х лет, красивым, бесконечно добрым и ласковым с детьми, воспитанным и вежливым в обращении со взрослыми. Он сильно хромал на одну ногу. Еще будучи кадетом полтавского корпуса, он после какой-то болезни, кажется, скарлатины, сделался калекой – одна нога стала короче другой. Конечно, в военную службу он пойти не мог и, окончив корпус, жил с матерью и бабушкой в Полтаве. У них было два хороших собственных дома, жили они, как говорится, зажиточно. Приходя к тете Жене, мы чувствовали себя неловко в огромной 8-ми-комнатной квартире. Тетя Женя была дама с претензиями, с нами была внешне ласкова, но всем своим поведением замораживала нас. Мы говорили "да", "нет", "благодарю" и сгорали от желания скорее уйти, если Кости не было дома. Бабушка угощала нас вареньем, орехами и другими сладостями, но и старушке не удавалось растопить созданный общей атмосферой лед. Еще холоднее становилось, если случайно у тети Жени был во время краткого приезда из Германии старший ее сын Коля. Наш троюродный брат Николай Дмитриевич Папалекси, впоследствии большой ученый, физик и действительный член Академии Наук СССР, умел своим присутствием замораживать детские сердца, даже если они немножко оттаяли под действием бабушкиных сластей.
Но если, о счастье!, Костя был дома, он без стеснения забирал нас к себе в комнату и тут мы отводили душу. Он умел увлечь нас каким-либо рассказом, вероятно, тут же сочиненным, выдумывал разные игры, устраивал состязания по силе, ловкости, применяя гири, резинки и какие-то другие гимнастические приспособления и приборы.
В тяжелое для нас время, когда мама сильно заболела и приехавшая тетя Женя (она, в сущности, была добрая женщина) отвезла ее в больницу, мы остались одни. Прислуга, у нас тогда было двое девушек – горничная и кухарка – не могли организовать, как принято говорить в настоящее время, наш быт. Не в обиду им будь сказано, без хозяйки они чувствовали себя свободней, больше оставляли себе сдачи от базарных закупок, больше гуляли с кавалерами. Да разве мы знали, что они делают? Словом, мы остались бы беспризорными. Но, как и всегда, нас выручил Костя. Он переехал к нам на житье, и пока мама не вернулась из больницы, не покидал нас.
А представьте, дети, такую семейку:
Наташа – старшая – 12 лет;
Коля – около 10 лет;
Я – восьмилетний, Сережа 6 лет, Юра 4 лет и сестренка Верочка 2-х лет от роду. Кто может управиться с такими "клопами". А Костя справлялся. Да еще как! Он не давал никому заплакать, загрустить. Всем находил занятие, для всех был няней – и какой золотой, любящей, нежной!
В субботу и воскресенье приходили Андрюша и Володя. К чести их надо сказать, что никакие товарищи, никакие забавы не соблазняли их. Они все отпускное время проводили вместе с нами.
Когда тетя Женя привезла маму в карете скорой помощи из больницы, радости нашей не было предела, но Костю мы не хотели отпускать и он дня два еще прожил с нами. Чтобы закончить портрет этого человека, скажу, что, когда началась война, он подавал несколько раз заявление с просьбой зачислить в армию; говорил, что прекрасно ездит верхом (что была правда), что нога не мешает ему быть кавалеристом. Его, конечно, не приняли. Отказ он тяжело переживал.
Вставка, написанная позже.
Во вступлении к своим воспоминаниям я отмечаю, что мне тяжело было оставаться одному в квартире. Это постыдное обстоятельство было у меня не от рождения. Говорят, что я был довольно храбрый мальчик, ходил один в темную комнату, не только не боялся, но любил слушать "страшные" рассказы. Но все это изменилось, и изменилось, к великому сожалению, на всю жизнь. Вот как это произошло.
Жили мы на тихой Новопроектированной улице. Рядом с нашим домом был такого же типа дом, принадлежавший некой старушке по фамилии Черепко, а в следующем за ним располагалась усадьба не менее почтенной владелицы Трофименко. Трофименко была обыкновенная старушка, а Черепко довольно страшного вида, мужеподобная. Ее орлиный нос, густые нависшие над глазами брови и что-то вроде усов на губе были необычны. Старуху называли "черепом". Прислуга, утихомиривая расшалившихся детей, пугала их образом действительно страшной соседки. И вот, в один солнечный летний день, гуляя во дворе, я услышал грустное похоронное пение. Выбежав за ворота, я увидел вынос покойницы из соседнего дома, певчих в траурной одежде, стоявший на дороге катафалк, священника. Это были похороны старушки Черепко. Гроб был открыт, впервые в жизни привелось мне видеть лицо покойника. Да и погребальное пение раньше не приходилось слышать.
Вы, дети, не представляете себе церковные службы, пения, а тем более похоронного обряда. Надо сказать, что по силе воздействия на чувства, по глубине проникновения в душу человека редко что может сравниться с православными религиозными песнопениями. Сколько красивейших концертов для церковного хора сочиняли крупные композиторы вроде Бортнянского, …; и даже гениальный Чайковский уделил внимание православной службе. Это, конечно, имеет свои социальные причины, но сейчас речь не о том. А какое впечатление производит на человека обряд похорон с его "Со святыми упокой", "Вечной памятью" и другими песнопениями. Глубоко отозвалось в моей впечатлительной детской душе все увиденное и услышанное. Изумленный и потрясенный я вернулся домой и долгое время чувствовал себя необычно. Черепки не стало. Смерть я видел впервые.
Прошло несколько месяцев. Мы с Колей возвращались из города, уже издали заметили невдалеке от нашего дома скопление людей на тротуаре, услышали знакомые мне мелодии похоронных песнопений. Вновь на дороге стоял катафалк, какие-то люди держали венки. Это выносили старуху Трофименко. Я не смотрел на вынос, как прошлый раз, старался скорей войти в свой двор, стряхнуть тяжелое настроение. Не думалось тогда, что эти, в сущности, обычные, бытовые картины отразятся на всей моей жизни. Но случилось иначе.
Как-то, вскоре после смерти Трофименко, мне понадобилось взять что-то из нашей детской комнаты. Был вечер, все сидели в кабинете, мама была в больнице. Настроение у каждого было невеселое. Я вышел из кабинета и пошел в далеко расположенную темную детскую.
Кто-то из братьев, конечно, без всякого дурного намерения, может быть, даже желая меня подбодрить, крикнул издали: "Не бойся, черепа ведь нет!". Образ покойницы в гробу промелькнул в моем воображении. Я испугался, закричал что-то бессвязное и стремглав, натыкаясь на мебель в столовой и гостиной, прямо влетел в кабинет. Состояние мое было близко к обморочному. Все меня успокаивали.
Пусть это бессмысленно, глупо, недостойно не только взрослого мужчины, но даже нервной девчушки, но с тех пор я стал бояться темной комнаты, покойников, одиночества. И таким я остаюсь и теперь.
Может быть, эта откровенность излишня. Может быть, только Жан Жак Руссо, великий человек, мог позволить себе неприкрытые фиговым листком откровенности в "Исповеди". И все же считаю нужным писать вам, дети, о своих недостатках, порой прямо чудовищных. Я не хочу казаться не тем, что я есть. А если есть (конечно, по моему мнению) у меня и хорошие качества и черты, я тоже без стеснения буду о них говорить.
Наступили дни революции 1905 года. Мне казалось, что все только об этом думают, только об этом говорят. И вот я увидел события революции своими глазами. Мы с Колей, подходя к центральной части города, еще издали услышали бодрящие звуки Великого гимна. Это была русская "Марсельеза" – "Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног". Затем, уже совсем близко, на углу Б. Кузнецкой и Гоголевской улиц, возле городской библиотеки и театра, показалась большая толпа. Шли больше молодые люди, вероятно, студенты и рабочие, несли красные флаги и пели. Коля взял меня за руку, мы отошли на край тротуара поближе к домам и с непонятным волнением смотрели на шествие. Раздавались крики, мне все было непонятно. – "Это бунтовщики", – сказал чей-то голос. На него гневно закричали. Колонны поравнялись с нами. И вдруг со стороны Мало-Петровской улицы послышались возгласы команды, и сотня донских казаков налетела на идущих. Я не могу описать подробно и ясно, что произошло потом. В моем детском мозгу запечатлелось свист нагаек, свирепые лица донцев, падение тел, отдельные выстрелы, крики "долой" и бегущие в разные стороны группы людей.
Потрясенные виденным, мы с Колей, даже не плача от испуга, сначала не могли двинуться с места, а через несколько минут побежали по направлению к нашей улице. Я упал по дороге, ушибся и поцарапал себе руку, но боли не замечал. Так сильно было впечатление от всего виденного. Мама на нас не сердилась, но запретила выходить на улицу без старших и долго плакала. Почему плакала мама? С нами могло произойти несчастье, нас могли задавить, случайная пуля могла не пощадить и нас. Но в этом, не только в этом была причина маминых слез. Воспитанная в духе любви к государю, считая незыблемым существующий строй, мама, естественно, была сторонницей сохранения этого строя, значит, против "бунтовщиков"-революционеров. Но, в то же время, при ее бесконечной доброте, человеколюбии, симпатии к бедным, обиженным людям она глубоко страдала от таких "издержек" революции. Ей казалось, что во всем виноваты отдельные смутьяны, а обманутые народ, молодежь невинно и бесцельно страдают.
Потом пошли один за другим террористические акты. Днем в центре города был убит некто Филонов, советник полтавского губернского правления, произведший жестокую расправу в селе Сорочинцы и в других местах с крестьянами, убили жандармского офицера, было совершено покушение на начальника дивизии генерала Полковникова. Говорили, что были убиты еще какие-то другие лица – помещики в своих усадьбах. Возможно, старались озлобить либерально настроенную интеллигенцию против революционеров.
Вспоминаю обстоятельства покушения на Полковникова. Кадет старшего – седьмого – класса Ващенко-Захарченко* возвращался в 8 часов вечера в воскресенье из корпуса. Шел он по Екатерининской улице. Было совершенно темно. Подходя к дому, где жил начальник дивизии, Ващенко увидел остановившийся экипаж и генерала, соскочившего с подножки и направлявшегося к дверям своей квартиры. В этот момент раздался выстрел, ругань, крик разочарования, и кадет заметил человека, поднявшего не то кирпич, не то камень и бросившего этот предмет в генерала. В один миг Ващенко бросился вперед и своей высокой фигурой заслонил стоявшего на крыльце Полковникова. Кирпич попал в голову несчастному самоотверженному кадету. Он упал. Одновременно солдат-кучер и еще какие-то люди, очевидно, прохожие бросились на покушавшегося и вынудили его спастись бегством. Ващенко подняли, уложили в экипаж Полковникова и отвезли без сознания в лазарет. Он выздоровел, но память и умственные способности его пострадали. Окончив с грехом пополам корпус, он не мог быть принят в военное училище. Его зачислили чиновником в какое-то учреждение и не обременяли службой. Встречаясь с кем-либо из своих однокашников, он говорил; "Служба у меня не тяжелая, я гуляю, чины идут" – и не унывал.
![]()
* В 1906 г., когда было совершено покушение на г.-м. Полковникова, кадетом седьмого класса был Ващенко-Захарченко Владимир Петрович (вып. в 1907 г.), но он после окончания корпуса пошел в военную службу и закончил Киевское военное училище в 1910 г. Учитывая, что срок обучения в училище 2 года, можно предположить, что он поступил в него через год после окончания корпуса.
Шли зловещие слухи о предстоящих еврейских погромах. В ряде городов в Польше, в юго-западных губерниях происходили погромы. Это было что-то дикое, ужасное. В Полтаве, к счастью, значительной степени благодаря благородной деятельности В.Г. Короленко, обошлось без этих жутких варварских событий. Но евреи длительное время чувствовали себя очень неспокойно и неуверенно.
К нам частенько приходил старый-престарый еврей, скупая всякий хлам, ненужные носильные вещи. Он брал решительно все. Казалось бы, на что ему совершенно изношенные детские ботинки, прошлогодние газеты или еще более никчемные трофеи. Но любил он, заплатив копейки за целый мешок разной значимости вещей, попросить, как он говорил, "для внучки" что-нибудь более приличное – платье или туфельки, которые еще годились бы к носке. И мама ему уступала бесплатно какую-либо вещь "для внучки".
Вот этот старый еврей "Хандель", как мы его звали про себя, в момент тяжелого ожидания погромов как-то спросил маму – "А я, мадам, очень буду умолять Вас приютить мою семью в Вашем доме, если будет погром". Мама согласилась, конечно. Он просиял и долго кланялся, уходя, а я заметил, как, уже выходя из калитки, он долго вытирал глаза, очевидно, полные слез старческие глаза. Такие моменты не забываются.
Еще один памятный мне случай, связанный с событиями 1905 года. Случай домашнего масштаба, но характерный для некоторых слоев молодежи той бурной эпохи.
Был у нас знакомый студент Харьковского Ветеринарного института, некто Сыробоярский. Его брат, кадет Саша, одноклассник Андрюши, бывая у нас, иногда приводил и старшего брата. И вот, будучи студентом и приезжая из Харькова домой, Сыробоярский считал своим долгом побывать у нас с визитом. В дни разгара революционных событий, оказавшись в Полтаве, студент явился к нам. Пройдя не через парадный ход, а со двора, он вошел в нашу детскую комнату. Увидев нас, молодой "революционер" вынул из кармана браунинг, проверил обойму и, видя наше удивление, сказал: "В такое время без револьвера ходить нельзя". Спросив, дома ли мама, он через столовую прошел в гостиную, где мама с Наташей занимались игрой на рояле. После первых минут банального разговора Сыробоярский перешел на обсуждение текущих событий, на взгляды и убеждения мамы, начал ругать царя, духовенство, все порядки и государственный строй. Мама сдерживалась, но эти разговоры ее сильно волновали. Она возражала, Сыробоярский горячился. Нам – Коле и мне – стало страшно за маму. "Ведь у него заряженный револьвер", – пронеслось у меня в голове. Вероятно, так думал и Коля. Мы стали по бокам маминого кресла и мрачно глядели на разошедшегося гостя. Заметил ли он детскую "защиту" и устыдился своего нетактичного поведения или просто взял себя в руки, но вдруг умолк и стал прощаться. Больше мы его не видели.
На Рождество 1905 у нас, как обычно, была елка. Какая это замечательная, хоть и не старинная, но прочно слившаяся с событиями русской старины традиция! Сколько непосредственной радости приносит она детям, сколько хороших, а подчас одновременно и грустных минут доставляет она взрослым. Не знаю, часто ли это настроение встречается, но мне всегда и радостно, и грустно смотреть на елку. Какие-то мимолетные образы, обрывки воспоминаний проносятся передо мной. Иногда грустно до слез. "А молодость не вернется, не вернется весна".
Но нигде так оживленно, оригинально, интересно не проводят праздник Рождества, как на Украине. Вернее, надо сказать, не проводили. Сочельник с его особой "вечерей" со звездой. Постный борщ с фасолью, рыбой и маслинами, пироги. С чем только не пекли пирогов – и с кислой капустой, и с картошкой, рисом и рыбой, и с кашей гречневой с грибами! Потом жареная рыба; у нас в детстве всегда была […]. А на сладкое узвар и кутья. Да какая кутья – из молодой пшеницы с орехами и маковым молоком! Только, бывало, встанем из-за стола, а тут пареньки, вернее, хлопчики со звездой колядовать пришли. Поздравляют, поют колядки. Дети в восторге. Одарят их пирогами, дадут гривенник, а то и пятиалтынный (15 копеек серебром), и они, довольные, с шумом и криком уходят, чтобы идти в следующий дом.
Елка у нас устраивалась на первый день праздника. Днем вся семья украшала красавицу елку, а при наступлении темноты старшие братья зажигали свечи при закрытых дверях. Дверь распахивалась, и под звуки бодрой веселой музыки (мама играла на пианино) мы входили в гостиную. Сейчас, устраивая елку, мы украшаем ее шариками и другими стеклянными игрушками. Между прочим, иногда, вешаем конфеты. Очень красиво, но больше для взрослых. А тогда основой праздничной елки были особые, длинные, с бахромой на концах обертки конфеты, специально для елки продававшиеся пряники, краснобокие крымские яблоки, мандарины и масса орехов – золотых и серебряных настоящих орехов. Хлопушки с сюрпризами, стеклянные шарики, флажки всех государств мира, картонные игрушки и цепи из золотой бумаги дополняли убранство елки. Но главное, что отличало "старую" елку – это свечи, настоящие парафиновые или стеариновые елочные свечи с живым мерцающим огнем. Мы не признавали елку за рождественскую елку, если она была расцвечена холодными электрическими лампочками. Конечно, такие "ненастоящие" елки были только в учебных заведениях, офицерском собрании, клубах и т.п. Перед Новым годом елку разбирали. Сладости делили между детьми, игрушки прятали до следующего года, деревцо выбрасывали, как ненужный, сделавший свое дело предмет.
Но в этот раз Андрюша решил оживить елочку, дать ей возможность еще раз порадовать детей. Он, никому ничего не говоря, соорудил снежный пьедестал среди двора, укрепил на нем елку, повесил много-много фонариков и только одно украшение – блестящую звезду на вершине, и зажег свечи. Был ясный, тихий, морозный вечер. Когда нас позвали, мы долго, как зачарованные, любовались неописуемым красивым зрелищем. Елочка наша ожила.
Весной Коля держал экзамены, и осенью 1906 года поступил в 1-й класс корпуса. Мы стали относиться к нему с уважением. Я с нетерпением ожидал своей очереди стать кадетом. Приходилось больше заниматься с мамой, готовясь к конкурсным экзаменам.
Наконец-то мы дождались приезда папы с войны. Помню, как встречали папу. Из Екатеринослава приехали старушки - сестры отца – тетя Саша и тетя Катя, и другие родственники. Общую радость трудно описать. Все целовались, говорили, не слушая и перебивая друг друга; мы бросились к папе на шею и каждому хотелось, чтобы отец обратил на него внимание, сказал бы ему ласковое слово. Долго не ложились спать в тот день.
Проснувшись утром, мы тихо, чтобы не разбудить взрослых пробрались в галерею, где стояли папины чемоданы и пытались узнать, что же там упаковано. Вскоре папа проснулся, встали и все взрослые, и какова была наша радость, когда стали открывать чемоданы и извлекать из них всякие интересные вещи. Были там отрезы китайского шелка, желтого, черного, цвета бордо, были статуэтки, палочки, которыми китайцы едят рис, китайские картинки для обоев и другие невиданные нами предметы из далекой Манчжурии.
Вскоре отец вышел в отставку с чином генерал-майора, и как в то время писалось, "с мундиром и пенсией". Увы! Пенсия была весьма скромна. После высокого жалования в условиях действительной службы на войне, семья должна была существовать на 90 рублей в месяц. Только воспитание нас в кадетском корпусе на всем казенном выручало семью в материальном обращении. Вся жизнь родителей с этого времени была посвящена только нашим интересам. Отец не только перестал пить, но дал себе и матери слово не брать капли водки и даже вина в рот.
И наряду с этим, вместо того, чтобы держать нас в корпусе полностью, нас, кроме Володи и Андрюши, в отличие от почти всех кадет по просьбе отца определили как "приходящих". Приходящими назывались кадеты, живущие постоянно в семье и только на уроки отпускавшиеся в корпус. В 8 ч. 20 минут утра приходящий являлся в свою роту, и, пробыв до 3 ч. 10 минут дня, возвращался домой. Форма, обувь, белье были казенные, но из питания такой кадет имел только завтрак на большой перемене, а остальной рацион обеспечивался семьей.
Таким образом, нас кормили дома, а на это надо было тратить деньги, которые были все на строгом учете. И все же отец считал, что, будучи дома, мы сможем продолжать учиться игре на рояле с мамой, практиковаться в немецком и французском языках, быть под постоянным его присмотром.
Все для детей – ничего для себя, – таков был лозунг моих родителей.
Мы распрощались с нашими "фрейлейн", с маэстро Липскарем, с обедом из 3-х блюд и другими возможностями обеспеченных материально людей. Одна прислуга, как говорили "за все" у нас и осталась.
Сменили мы и квартиру на более дешевую. Правда, новая квартира была в прекрасной части города, утопающей в скверах садах и палисадниках. Улица наша называлась Мало-Петровской*, а после празднования 200-летия полтавской битвы переименована в Келленский проспект, в честь славного коменданта, отстоявшего город от шведских войск до подхода армии Петра Великого.
![]()
* Очевидная ошибка. Имеется в виду Большая Петровская. Ныне это отрезок Первомайского проспекта от пл. Ленина до ул. Шевченко.
В 1957 году, побывав 2 дня в Полтаве, в первые же часы пребывания в родном городе, я с женой подошел к "нашему" дому и, воспользовавшись разрешением живущих в нем, с глубоким волнением вошел в бывшую нашу квартиру. Мы прошли по комнатам, но перегородки, закрытые двери, совершенно непохожая обстановка до неузнаваемости изменили внутренний облик квартиры. Только окно-фонарь в потолке одной комнаты оставалось неизменным. Грустно, до слез грустно было на душе.
Недалеко от нас был расположен Гвардейский сад. Летом мы с мамой с утра отправлялись в этот тенистый старый сад с вековыми деревьями и проводили в нем время до обеда. Когда мы стали постарше, нас уже не удовлетворяли разбитые в саду дорожки, клумбы и прочие усовершенствования культуры. Нас манила запущенная глубь сада, уступами спускающаяся в лощину. Там никого не было. Заросли, овраги, дикий вид представляли возможность забыть, что мы в городе, будили нашу фантазию. А какой вид на окрестности Полтавы открывался оттуда! Теперь ничего этого нет, в саду остались отдельные деревья от старых времен, а от дикого вида террасы не осталось даже следов. Только вид с горы по-прежнему хорош. Но вид даже война не смогла уничтожить.
|
|
Часто, идя из дому в сад, мы проходили по Мало-Садовой улице. Прелестная, зеленая и какая-то особенно уютная улица. В одном из домов совсем на краю города жил большой русский писатель, гуманнейший человек Владимир Галактионович Короленко. Мы часто видели его у открытого окна с книгой в руках. Иногда он выглядывал своими серьезными, но добрыми и, мне казалось, грустными глазами на группу детей, невольно замолкавшую, проходя мимо дома писателя. Как-то Владимир Галактионович улыбнулся, глядя на нас. С тех пор, видя его, маленькие кланялись, а кадеты отдавали честь. И он в ответ приветствовал нас ласковым взглядом.
Уже будучи взрослым, я прочел "Историю моего современника", а еще в корпусе нам читали "Слепого музыканта" и "Сон Макара". С особым вниманием слушал я повесть передового русского писателя, художника и публициста, образ которого запечатлелся в детстве.
В 1906 году началась дружба нашей семьи, вернее, молодого ее состава, с семьей Погореловых. С III-го класса гимназии Наташа все больше сходилась с подругой по классу Юлей. Это была скромная, хорошая девочка подросток, средних способностей, но по всему своему складу характера полная противоположность нашей Наташе. Семья Погореловых – очень гостеприимная, исключительно радушно принявшая Наташу, а вскоре и других членов нашей семьи, принадлежала к другому кругу общества. Мы были бедны, но дети генерала, дворяне, Погореловы имели три собственных и неплохих дома, жили зажиточно, но отец их был мещанин, работал управляющим крупной полтавской торговой фирмы Хлебникова. В большом мануфактурном магазине имелась застекленная конторка – рабочее место Петра Родионовича Погорелова. Через несколько лет после начала нашего знакомства, Петр Родионович получил звание потомственного почетного гражданина. Радость его выхода из мещанского сословия разделялась всей семьей, особенно не молодежью, а происходившей из служилых дворян женой Анной Васильевной.
В наше время трудно понять эти чувства. А в описываемую мною эпоху, в особенности в провинции, принадлежность к тому или иному сословию имела, подчас, немалое значение. Правда, в практическом смысле, разницы, по существу, никакой не было, если не считать очень небольшого числа учебных заведений, куда принимались только дворяне, льгот при отправлении в ссылку, о чем, конечно, никто заранее не думал, возможно, еще каких-либо подобных преимуществ. Вот и все. Но в обществе, повторяю, в провинции, многие не переходили своего круга, не общались близко с "нижестоящими" семьями, подходили к ним свысока. Не было этих предрассудков, естественно, в интеллигентной среде. Не было их у наших родителей.
У Погореловых была довольно большая библиотека, Наташа брала книги для себя, старших братьев, а, иногда, и для отца. Как-то поручили мне отнести взятые книги и по записочке получить другие. Запомнив точно адрес, я храбро подошел к парадной двери дома Погореловых и позвонил. Вышел мальчуган лет 7-ми (мне скоро исполнялось 10) и на мой вопрос – "Здесь ли живут Погореловы?", угрюмо ответил, что никаких Погореловых он не знает, и захлопнул передо мной дверь. Я возвратился домой огорченный. Пришлось Наташе пойти самой. Однако она взяла и меня, желая удостовериться в правильности моего рассказа. Мы пришли, было много смеха. Мальчик Сережа, младший в семье Погореловых, оправдывался невозможностью впустить чужого человека. Так началось и мое знакомство с этой хорошей семьей, дружба с которой не прекращалась.
Их никого уже нет в живых, кроме одной из 3-х сестер – Веры. Старушка живет в том же доме, в тех же комнатах, почти глухая. С грустью о безвозвратно прошедшей молодости вспоминали мы с Верой 3 года тому назад о наших детских шалостях, о первых ребяческих поцелуях в кустах, невинных записочках, о милых сердцу родных и друзьях. Все там переменилось, нет ни сада, ни дивных роз, за которыми ухаживала вся семья, ни площадки для крокета, ни тенистых беседок. Развалившаяся веранда, склад угля в галерее, где стояли шкафы и сундуки с книгами, облупившиеся стены, чудом сохранившееся, но разбитое пианино без трех клавишей, покосившееся крыльцо… "Никаких Погореловых здесь нет" – вспомнилось мне.
Мы изредка переписываемся теперь со старушкой Верой.
Я не раз упоминал, что после вторичного выхода отца в отставку семья жила в очень стесненных условиях. Желая несколько помочь родителям, тетя Люба, сестра отца, жившая постоянно в Тифлисе, приехав погостить к нам со своей единственной дочерью Инной, предложила отцу отдать кого-либо из нас на постоянное жительство в Тифлис. Муж тети Любы служил преподавателем в кадетском корпусе. Я, выбор тетки остановился на мне, вероятно потому, что я был на очереди поступления в корпус, буду у них на положении родного сына в любящей, материально обеспеченной семье. Отец категорически отказался отдавать меня или Сережу, вообще кого бы то ни было. Любовь к нам, детям, отцовский долг самому воспитать нас честными людьми, нежелание отколоть от семьи одного из сыновей, были причиной отказа отца.
Мы вспоминали об этом через 15 лет, когда в годы Революции я приехал на дачу в дачное место "Платформа двадцатой версты" под Москвой, где тетя Люба с Инной и ее мужем Н.М. Литвиновым жили в то лето.
Подошло время моего поступления в корпус. За год или за два до этого, вместо обычного легкого вступительного экзамена был введен конкурс при приеме во все кадетские корпуса России. Желающих и имеющих право на бесплатное пребывание в этих учебных заведениях было все больше. Нужен был выбор из наиболее хорошо подготовленных. Держали экзамен по русскому устному, по диктанту и по арифметике. Собралось много мальчиков. Все были с родителями, с отцом или матерью. Меня, так же как и Колю, повела на экзамен мама.
С плохо скрываемым любопытством "конкурсанты" осматривали друг друга. Мне понравился один серьезный мальчик, сидевший в приемной со своей бабушкой. Фамилия его была Неелов. Как-то само собой состоялось наше знакомство. Мы делились впечатлениями, наблюдая наших будущих товарищей. Некоторые гуляли по тротуару перед зданием, один, сидя со старичком отцом, полковником в отставке, плакал. Это был мальчик кавказского типа, он не поступил, не выдержав экзамена по арифметике. Были шалуны, затеявшие какие-то не совсем подходящие к такому моменту игры. Большинство детей держалось поближе к своим родителям и заметно волновалось.
В 10 часов в приемную вышел один из воспитателей и проверил по списку явившихся на конкурс. Через 15 минут вызвали несколько человек по алфавиту. Я с ужасом представил себе, сколько же времени мне волноваться. "Скорей бы все решилось". В 1-й день я, получив хорошие отметки, выбежал к маме и торопил ее идти домой. Мне хотелось в домашней обстановке рассказать всем, как удачно я отвечал по грамматике, прочел стихотворение, как быстро решил сложную, так мне казалось, задачу. Директор корпуса, в то время полковник, Попов, лично присутствовал при моем экзамене по арифметике, задавал мне вопросы, и когда я правильно ответил, спросил – "Это ведь Ваши братья учатся в корпусе, значит, Вы у нас будете четвертым Шапаровским". Я просиял. Он, очевидно, считает, что я буду принят, ведь он сказал "будете у нас четвертым ". Попов – директор корпуса – был очень строгий и по виду и по характеру. При небольшом росте, он, благодаря своей манере держаться, расчесанной на две половины бороде и какому-то стальному взгляду умных глаз, казался весьма представительным. Его не любили, но уважали и боялись. После распустившего дисциплину добряка генерала Потоцкого, ушедшего в отставку, Главное управление военно-учебных заведений назначило артиллерийского полковника Попова, читавшего в военных училищах высшую математику, директором корпуса с целью "подтянуть" и полтавских кадет, и педагогический персонал. Через год, окончивший в свое время академию, Попов был произведен в генерал-майоры, а когда я был в четвертом классе, он вышел в отставку и был избран депутатом Государственной Думы. За время пребывания директором он действительно подтянул корпус во всех отношениях и вывел его на одно из первых мест в России.
На следующий день, после диктанта, который для меня сошел тоже неплохо, нам объявили результаты экзаменов. Мы с Нееловым были приняты. Распрощавшись с ним и некоторыми другими зачисленными в списки кадет товарищами, уже как со старыми знакомыми, до 16-го августа (экзамен был в конце мая), я напомнил маме об ее обещании пойти к Кандыбе. Это была лучшая в Полтаве кондитерская, там были удивительно вкусные пирожные, особенно "картошки". До сих пор помню и вид, и вкус этих оригинальных сладостей. Лучшего лакомства для кадет не было.
С восторгом я пил шоколад у Кандыбы, и мне казалось, что все посетители смотрят на меня, знают о моей радости, любуются будущим кадетом. Это был один из замечательнейших дней моей жизни, незабываемый день. Дома все поздравляли, папа был очень доволен и подарил мне полтинник. Целое состояние! 20 рублей на наши современные деньги. Сколько семечек, маковников купил я, устроив угощение для братьев и сестры Верочки.
Быстро прошло лето. Наступил день 15-го августа, последний день каникул. Вечером меня отвели в корпус. После обязательной бани, лучшей во всем городе, мы получали кадетскую форму и шли в роту. Длинные брюки после коротких синих штанишек, белая рубаха с медными пуговицами и светло-синими погонами, подпоясанная черным лакированным поясом с медной бляхой, какой восторг!
Омрачала радость перспектива ночевать вне дома, на чужой постели. Но мне предстояло оставаться на ночь в корпусе только несколько дней. Научусь отдавать честь офицерам, становиться "во фронт" генералам и буду приходящим, т. е. после уроков отправляться домой. А вот большинство моих новых товарищей даже по субботам не будут ходить в отпуск и поедут к семье только на Рождество. Есть и такие, что впервые увидят своих родных не раньше лета. Это кавказцы по преимуществу. Мне было стыдно горевать, покинув на несколько дней родной дом. И потом, ведь я теперь взрослый, к тому же военный. Так думал я, лежа в постели в громадной спальне, среди 120 мальчиков первого и второго классов.
II. В корпусе.
В полтавском корпусе, носящем название Петровского в честь Петра Великого, училось 500 кадет. Корпус был основан в суровое время царствования Николая І-го в 1840 году. В 1860-е годы все корпуса, кроме Пажеского, Морского и еще одного-двух были реформированы в военные гимназии, а с 1885 снова переименованы в кадетские корпуса. В сущности разницы большой между гимназиями и корпусами не было. В военных гимназиях была несколько слабее дисциплина, в составе воспитателей допускались штатские педагоги, вместо рот кадеты делились на "возрасты", несколько иной была форма воспитанников.
Поскольку основным заданием средних учебных заведений военного типа являлась подготовка молодых людей к поступлению в военные училища для пополнения по окончании их офицерских кадров, логичней была система корпусов, чем гимназий.
В мое время в России было 30 кадетских корпусов. Учебные программы, распорядок дня и т.д. почти во всех были одинаковы. Особый характер имели Пажеский корпус – привилегированное учебное заведение, имевшее свои юнкерские классы и выпускавшее воспитанников прямо в офицеры, преимущественно гвардейских полков всех родов оружия; Морской корпус, также имевший свои гардемаринские классы, из которых кадеты производились в офицеры на флот; Николаевский кавалерийский, отличавшийся от обычных корпусов обучением кадет верховой езде и Новочеркасский Донской, где воспитывались главным образом дети казачьих офицеров.
Общеобразовательные предметы в корпусах преподавались по программам, близким к программам реальных училищ, но с добавлением высшей математики и законоведения. Латинского языка в корпусах не проходили.
Каждый кадет по окончании 7 классов имел законченное среднее образование и право поступления во все высшие учебные заведения на общих основаниях с реалистами, гимназистами и окончившими коммерческие училища. Для поступления в университет кадетам, так же, как и другим абитуриентам (так назывались поступившие в высшие учебные заведения) гимназистам необходимо было сдать при учебном округе или при какой-либо казенной гимназии дополнительный экзамен по латыни в объеме гимназического курса.
Однако большинство кадет, окончив корпус, шли по своему прямому назначению в военные училища.
В своих мемуарах "50 лет в строю" Игнатьев мимоходом отмечает, что полтавские кадеты славились ленцой. Не сомневаюсь, что это правда, но, правда, для времени, когда Игнатьев учился в киевском корпусе. Я уже отмечал, что назначенный в 1906 году директором полковник Попов в короткое время резко изменил положение. Десятки кадет были исключены, приглашены новые преподаватели, усилено физическое развитие молодежи, введена строгая дисциплина. Тут было не до "ленцы". Конечно, были и лентяи, случались весьма нехорошие "шалости", но это было исключением. Общий уровень жизни кадет, их воспитания, лицо корпуса стали совершенно иными.
Многие думали, что кадеты – привилегированные ученики средних учебных заведений, что жизнь их легка, воспитывают их как барских сынков, кормят деликатесами и т.д. Это совершенно неправильное представление. Нигде не было такой суровой обстановки, жестко соблюдаемого режима дня, простой, хотя и здоровой пищи. Наряду с этим нигде так не закалялось здоровье, не представлялось возможности получить всестороннее умственное и физическое развитие, я бы сказал "образовать" характер.
О программе преподавания общеобразовательных предметов я уже вам, дети, рассказывал. Добавлю, что, будучи студентам Института Инженеров Путей Сообщения в Петрограде, я, не занимаясь почти дифференциальным исчислением и алгебраической геометрией, свободно сдал зачеты на I-м курсе.
Ежедневно из 6 уроков в день (в 2-х младших классах было 5 уроков) один отводился для гимнастики, фронтовым занятиям, танцам или пению. Гимнастика была 3 раза в неделю, остальным предметам уделялось по одному уроку.
Вставая утром в 6 часов под сигнал трубы или барабана, кадеты оправляли постель, умывались, чистили сапоги и медные пуговицы и в 6.45 выстраивались в ротной зале. Осмотр дежурным офицером-воспитателем, молитва и строем в столовую, общую для всего корпуса. Кружка чаю с 2-мя кусками рафинада, большая порция серо-белого прекрасно выпеченного в корпусной пекарне хлеба. Порция возрастала в каждой роте по старшинству. В I-ой роте (шестой и седьмой классы) она значительно увеличивалась сравнительно с младшей 4-ой. По назначению врача многим выдавался стакан молока. Вот и все. После утреннего чая прогулка. И будь самая суровая зима, злейшая вьюга, кадет вели на прогулку в одних мундирчиках поверх нижней рубашки. Если любитель тепло одеться не снимал гимнастерку, надевая на нее мундир, ему грозило лишнее дежурство или дневальство, а то и оставление без отпуска.
Только в сильный дождь, разумеется, прогулка отменялась. Младшие зимой ходили гулять в шинелях. Вернувшись с прогулки, кадеты имели минут 40 для повторения заданных уроков. Все обязательно находились в классах. Это называлось "утренние занятия". В 8.20 минут труба или барабан возвещали начало первого урока. Через 50 минут опять сигнал, 10-тиминутная перемена и второй урок. После 3-го урока большинство разминало члены на турнике, наклонной лестнице, параллельных брусьях и т.д. и шли в коридор строиться для самого приятного занятия – идти в столовую на завтрак. Как правило, перед выстроившейся в две шеренги ротой появлялся ротный командир в чине полковника. Ротный здоровался, читал приказ по корпусу, иногда делал какие-либо замечания, наставления, сообщения и т.д.
И вот мы в столовой. При сборе всех рот приходит директор, здоровается. Сигнал "на молитву". Поем молитву, поглядывая больше на блюдо с котлетами по-казачьи, колбасой, вкуснейшей домашней колбасой, чем на большую, до потолка, икону и ждем сигнала "отбой". Садимся. Старший по отделению или взводу кадет занимает место у торца стола, за которым размещается 10 проголодавшихся подростков или юношей.
Директор подходит к столику под иконой и пробует поставленную порцию завтрака. Право завладеть этим блюдом после пробы принадлежало по очереди кадетам первой роты.
На завтрак подавали горячее блюдо – котлеты, колбасу, зразы, украинские лазанки с творогом и с салом, солонину с хреном и картофельным пюре; великим постом это и подобные блюда заменялись расстегаями с рисом и рыбою, селедкой с винегретом, и другими постными кушаньями; на масленицу были блины со сметаной и маслом или с кетовой икрой, семгой. Меню на неделю вперед заказывали кадеты 7-го класса по очереди. Кроме горячего блюда к завтраку подавалась кружка кофе с молоком и небольшая вкусная булочка.
Снова сигнал, молитва, и мы строем расходимся по ротам. Быстро готовимся к прогулке, на которую уделяется минут 20-25.
В 20 минут первого снова сигнал и 3 урока. Затем обед. Насколько кадеты любили завтрак, настолько не любили обычный обед. Довольно безвкусный суп, мало разнообразное второе и какое-нибудь домашнее или кондитерское пирожное на третье блюдо. Только по средам и субботам на обед шли с предвкушением любимого меню: вкусный борщ с солидным куском мяса, и гречневая каша в обильном количестве с небольшой, правда, порцией сливочного масла в виде цилиндра, а потом кофе с молоком и полусдобная булочка. Все были сыты и довольны. С 4-х часов до 6-ти было самое приятное время дня. Конечно, прежде всего, длительная прогулка.
Каждая рота имела свое место прогулки. Утром по тротуарам в вольном строю парами в той или иной части города. После завтрака в садиках-дворах при здании корпуса. Послеобеденная прогулка осенью и весной для кадет всех рот назначалась на корпусном плацу, прекрасном зеленом поле, обсаженном по периметру деревьями и кустами сирени, и обнесенному высоким забором. Поздней осенью и зимой вместо плаца одни и те же наименее оживленные кварталы города и вольный строй.
Какая прелесть прогулка на плацу! Каждый находил себе занятие по вкусу. Любители футбола с самозабвением тренировались для встреч с командами гимназистов, реалистов. Гимнасты упражнялись в спортгородке, оборудованном всеми снарядами и принадлежностями. Музыканты трубили, разучивая новые марши и вальсы, подчас обучая премудростям духовой музыки смену будущих оркестрантов. Кто читал книгу, кто просто валялся на мягкой траве. Словом, это был настоящий отдых.
К 5-ти часам кадеты, состоявшие в церковном хоре, или в духовом оркестре, или индивидуально обучавшиеся игре на рояле, скрипке и т.д., под командой дежурного по 1-ой роте (старшей) отправлялись в корпус для участия в репетициях, спевках и т.д., если в этот день они полагались по расписанию. Остальные продолжали заниматься своим делом. На плацу можно было где-нибудь вдалеке от воспитателя покурить, лежа под деревом, перебросить через забор записку для передачи "симпатии". Мало ли что можно было делать на плацу. Но, увы, большую часть осени, зиму, да и значительную часть весны послеобеденные прогулки были скучны и однообразны. После шествия по тротуару парами, в мороз и дождь быстрым шагом, возвращались в роту.
Был еще один вид прогулки, его кадеты очень любили. Но эта, так называемая, военная прогулка проводилась только для первой роты. В субботу, сразу после завтрака на первом уроке было занятие фронтом, рота кадет с винтовками на плече, предшествуемая батальонным и ротным командирами, со своими воспитателями выстраивалась перед зданием корпуса. После приветствия директором корпуса, рота под звуки военного оркестра совершала прогулку по центральным улицам города, доходя до здания Института благородных девиц. Остановка. Оркестр играет бравурные пьесы. Издали через сад, расположенный перед зданием Института, стараемся увидеть личики молоденьких девушек, томящихся от Рождества до Пасхи, а потом до летних каникул в своих столетней давности […]. Им во сто крат тоскливей живется, чем нашему брату кадету. Машем рукой, хотя это и воспрещено. Воспитатели стараются делать вид, что не замечают допускаемой нами вольности, кое-кто посылает воздушный поцелуй. Вдруг – команда "Смирно! На плечо! Направо, шагом – арш!". Оркестр играет марш "Переселенцы", в котором трио построено на мелодии песни "Не брани меня, родная" и мы, отбивая шаг, молодцевато через весь город шествуем в свои "Пенаты". Забыв тоскующих институток, при встрече с хорошенькими оживленными гимназистками, украдкой посылаем им мимолетные шаловливые улыбки.
А как приятно незаметно во время обычной дневной или послеобеденной прогулки, встретив знакомую гимназистку, ненароком, или по предварительному сговору, вручить ей записочку, получив в ответ нежно пахнущий знакомыми духами голубой или синеватый конверт-секретку.
С 5-ти часов большинство, если не было занятий по музыке и пению, читали книги в классе или в читальне, ходили парами по коридору, в старших классах заводили граммофон, в младших резвились в зале. В 1-ой роте развлечением было фехтование на рапирах. Не менее 3-х раз в неделю каждый кадет минут по 10-15 занимался этим полезным видом спорта с одним из воспитателей, прошедших подготовку на специальных курсах в Петербурге. Удивительное дело, я не любил гимнастики и был, естественно, плохой гимнаст, но фехтовать мне нравилось, и наш тренер подполковник Порай-Кошиц меня хвалил и выдвигал на ежегодные состязания перед каникулами. Не знаю, что меня прельстило – специальный наряд, названия приемов на французском языке или грациозность этого полезного вида спорта, но я с нетерпением ожидал своей очереди надеть нагрудник, маску и перчатки, и с досадой передавал рапиру следующему кадету. Мне хотелось, чтобы на меня в момент фехтования смотрели родные и, что греха таить, знакомые девушки, или барышни, как тогда говорили.
В 6 часов вечера начинались так называемые вечерние занятия. Готовили заданные уроки. Отделенный офицер-воспитатель сидел за кафедрой, просматривая журнал с отметками, делал замечания; некоторые воспитатели помогали отстающим в приготовлении уроков. Кто заканчивал работу, читал книгу, писал письма, вел дневник. В эти часы приходил парикмахер. Только в 1-ой роте разрешалось иметь прическу – так называемую у нас челку, а на общепринятом языке – "бобрик". Бриться приходилось очень немногим. Малышей стригли под машинку.
Кончались вечерние занятия. Размяв на турнике, брусьях или еще как-либо "старые кости", кадеты строились и шли в столовую пить чай. Когда старшие пили чай, 4-ая рота уже укладывалась спать. После чая не разрешалось шуметь, желающие могли ложиться в кровать. В 8.30 в младших, в 10 часов вечера для старших заканчивался будний день. Только во время экзаменов можно было заниматься до 11 часов.
Ночью в коридорах горел нормальный свет, в спальне оставлялось несколько лампочек, затененных абажурами, да горела лампада перед киотом с большой иконой. В дежурной комнате отдыхал воспитатель – по очереди один из четырех в каждой роте. Дежурный служитель, или "дядька", как мы называли, клевал носом на скамье в коридоре.
Как правило, ночи проходили спокойно. Сто двадцать подростков или юношей в ротной спальне мирно отдыхали от трудов праведных. Кое-кто изредка что-то бессвязно бормотал во сне или похрапывал, но соседям это не мешало. Здоровый организм, крепкие нервы, правильный режим дня обеспечивали нормальный сон. Но были, правда очень редко, и нарушения этого правила.
Как-то весной в лунную ночь пятнадцатилетний кадет 5-го класса, внезапно проснувшись, вернее, встав с кровати не открывая сначала глаз, тихо, как бы боясь разбудить соседей, подошел к окну 3-го этажа, открыл его и вышел на карниз, шедший по всему фасаду корпусного здания. Первым проснулся сосед, хотел спросить что-то, но, увидев странный взгляд лунатика, сообразил, в чем дело, и тихо, стараясь не шуметь, разбудил кого-то еще. И не успел лунатик открыть окно, как вся рота проснулась и в ужасе наблюдала за дальнейшим. Кто-то догадался побежать в дежурку к воспитателю. Никто не решался сам принять какие-либо меры, боялись окликнуть лунатика, назвать его имя. Многие дрожали от страха, все были возбуждены. Дежурный офицер не растерялся. Быстро подойдя к окну, он легко вспрыгнул на него, и, держась одной рукой за раму, другой схватил лунатика, оказавшегося тут же за окном, за ворот ночной рубашки. Каково было удивление кадет, когда воспитатель, громко назвав "лунатика" по фамилии, приказал ему немедленно лезть обратно. И несчастный покорно вернулся на свою кровать. Долго не могли заснуть в эту ночь потревоженные кадеты. Наутро произведший фурор симулянт был вызван к директору. У директора находился старший врач корпуса. Не знаю почему, ночное происшествие прошло для шалуна без особых последствий. Нам объяснили, что лунатики существуют только в воображении невежественных людей. На нормальных людей лунный свет не оказывает никакого влияния (кроме романтических настроений и грез, добавлю я от себя), и что все виденное нами есть глупая мальчишеская выходка. Так ли это?
Помню еще одну беспокойную ночь.
Это случилось в 4-ой роте, т.е. среди самых маленьких. Были в 1-м классе два двоюродных брата – Тарновский, избалованный, очень неприятный мальчик и граф Орург или Орурк. Мать Тарновского, урожденная Орург*, была чем-то известна не только в Полтаве, но и в Петербурге и даже за границей. Что-то вроде авантюристки международного класса. Ее имя было овеяно какой-то тайной, связано с какими-то громкими событиями. Тарновский был капризен, даже несколько истеричен. Его никто не любил. Все считали его чуждым дружной кадетской среде. С братом они были в сильной вражде. И вот однажды ночью кадеты проснулись от громкого крика, вопля и топота бегущего по коридору человека. Потом все стихло. То здесь, то там мальчики стали вставать с кровати, надевать сапоги и бежали в коридор. Но там никого не было. Несколько мальчиков бросилось в боковой коридор и оттуда в уборную. На полу, выложенном метлахской плиткой, в одном белье, распластав широко руки, лежал Тарновский. Он был без чувств. Никто не знал, что с ним делать. Пришел дежурный воспитатель и "дядька". Тарновского вспрыснули водой, привели в чувство. Встав на ноги, он оглядел всех, как бы ничего не понимая, и вдруг с искривленным от ужаса лицом показал рукой на крупную надпись на стене: "Ta mère est mort – Твоя мать мертва". Надпись была выведена крупными, кривыми буквами красного, кровавого цвета. Он опять потерял сознание и пришел в себя только в лазарете. Никто ничего не понимал. Обратили только внимание, что Орург даже не встал с постели и после всеобщего волнения заснул, совершенно не беспокоясь о брате.
![]()
* Мария Николаевна Тарновская (урожденная О'Рурк). Смотрите книгу Льва Лурье "Хищницы" – http://www.e-reading.link.
Мы так и не узнали толком сущности ночного происшествия. Через несколько дней Тарновского взяли из корпуса, а в конце учебного года уехал и больше не возвращался и его двоюродный братец. Были предположения, что, зная любовь Тарновского к матери и его истеричность и желая ему, мягко говоря, напакостить, Орург подстроил своему врагу гадкую, злую шутку. Он сделал кровавую надпись, подделываясь под почерк своей тетки, зазвал брата в уборную, а сам быстро вернулся и лег в постель до того, как Тарновский эту надпись увидел. Орург, конечно, отрицал какое-либо свое участие в этом происшествии. Так ли это или было что-то иное, но, не имея объяснения описанному мною случаю, кадеты вскоре о нем забыли и, как говорят сейчас, перешли к очередным делам.
* * *
Социальный состав кадет Полтавского корпуса да, вероятно, и других корпусов, кроме привилегированных, был довольно одинаковым. В подавляющем большинстве родители воспитанников были офицеры, отставные генералы или мелкие помещики близ расположенных губерний. Правда, просматривая ежегодные справочные выпуски с перечнем всех кадет и рядом других сведений, я за все годы обнаружил только 3-х или 4-х кадет сыновей личных дворян (были два брата по фамилии Вагнер [Владимир, уволенный на попечение родителей, и Михаил], на год старше меня был сын преподавателя немецкого языка Гросберг [корпус окончили два сына Сигизмунда Густавовича - Яков и Фридрих] и еще кто-то). Был и сын старого солдата, крещеного еврея Фишера*, прослужившего в корпусе более 50 лет и имевшего за пятидесятилетнюю службу особую серебряную медаль. Но это были редкие исключения. За немногим исключением родители принадлежали к потомственным дворянам, но не землевладельцам, а к "служилому" люду. Зажиточных, а тем более богатых было немного, а титулованных и того меньше. Кроме описанного выше графа Орурга помню барона Корфа, барона фон Виганд**, несколько кавказских князей и еще нескольких кадет, имевших титул. В моем отделении и даже в классе громких фамилий не было.
![]()
* У Василия Ивановича Фишера был сын офицер (в 1909 г. - капитан), но нет сведений о том, что он окончил Полтавский кадетский корпус.
** В "Материалах к истории ППКК" Д. А. Ромашкевича кадет с такой фамилией не упоминается.
|
|
Но были из богатых и даже очень богатых семей. Кадет Максимович, правда, не в нашем отделении, а в параллельном. Сын предводителя дворянства одного из уездов Харьковской губернии, очень неглупый, начитанный, интересующийся политическими событиями, он в то же время был не то полу-юродивым, не то с большими странностями. В каждую свободную минуту, если он оставался один, поднимал глаза к небу и крестился. Идя по улице и видя поблизости церковь, Максимович снимал фуражку и, остановившись, не обращая на прохожих внимания, подолгу совершал крестное знамение. А во время службы в церкви, почти все время, стоя на коленях, клал земные поклоны так, что мы думали, не расшибет ли он себе лоб. На шее носил несколько крестиков и иконок. И так было до окончания корпуса. Во всем остальном он был нормален и даже способен. Выйдя из корпуса "на сторону", за один год прошел курс латинского языка и, блестяще сдав экзамен при одной из харьковских гимназий, поступил в университет. Я был у него в доме на Старомосковской улице, в прекрасно обставленном, многокомнатном особняке. Его отец и другие члены семьи производили впечатление вполне нормальных людей, вовсе не одержимых в религиозном отношении, даже наоборот.
А вот и такие мои одноклассники – Здановский, живший с матерью, вдовой-пенсионеркой, Кальченко, сын генерал-лейтенанта, Бушен* – единственное чадо жандармского полковника. Эти признавали за людей только офицеров, и притом кавалерийских. Все остальные, особенно штатские, за людей ими принимались с большими оговорками. Любопытно, что даже первые двое и то с недоброжелательством относились к Бушену, как сыну жандарма. Спешу оговориться, что таких кадет-"кавалеристов" было ничтожное число. Стремление к чему-то высшему, захват относительно передовыми идеями и стремлениями в жизни, желание быть полезным для общества людьми, юношески неоформленные, но гуманные убеждения были значительно более характерными для кадет старших классов в ту эпоху. Некоторые с гордостью называли фамилии знаменитых или известных людей, кончивших кадетские корпуса. Куприн, Скрябин, Римский-Корсаков (кое-кто знал даже Плеханова), Анатолий Дуров (правда, он не окончил корпуса, был исключен) и другие, не говоря о многих и многих выдающихся военных, пользовались большим почетом. А сейчас можно добавить Куйбышева, Мясковского, Игнатьева, Траяновского, Степанова (не закончив корпуса, перешедшего в Порт-Артурскую гимназию) автора "Порт-Артура" и "Семьи Звонаревых". А Кропоткин? Да мало ли их! Возвращаюсь к воспоминаниям.
![]()
* С автором мемуаров учился Алексей Бушен. Сведений об окончании им корпуса нет.
Нельзя обойти молчанием учившихся в мое время и кадет знаменитых в том или ином роде родителей и дедов. Так, в одной роте со мной, классом старше учился сын героя Порт-Артура Кондратенко*. Когда он был в 3-ем классе, мать взяла его для перевода в Петербург, кажется, в Пажеский корпус. Мы смотрели на даму в трауре восторженными глазами и, проходя мимо, в ее лице отдавали мысленно долг уважения и любви к погибшему герою. На много лет старше меня с братом Андрюшей учился неспособный и "дубоватый", представительный внешне юноша Комиссаров**, внук мещанина, спасшего Александра II-го при покушении на него у Летнего сада Каракозова в 1866 году. Его несколько раз должны были исключить из корпуса, но по указанию из Петербурга дали возможность закончить образование.
![]()
* Вероятно имеется ввиду Андрей Кондратенко, поступивший в корпус в 1906 г., а 21 июля 1910 г. переведенный в Киевский корпус.
** Василий Коммисаров-Костромской 22 августа или 26 октября 1907 г. из 6 кл. уволен на попечение родителей.
|
|
Номинально числился нашим кадетом сын великого князя Константина Константиновича Игорь. Великий князь зачислял своих многочисленных сыновей в различные корпуса. Между прочим, в Полоцком корпусе учился Олег Константинович. Он приезжал к нам во время празднования 200-летия Полтавской битвы. Это был стройный интересный юноша, хороший гимнаст и, как говорили, очень способный.
Наш Игорь приезжал в Полтаву только при переходных экзаменах. Будучи в 7-м классе, он был назначен вице унтер-офицером и знаменщиком. В течение года другой кадет исполнял эту почетную должность. Но весной в период выпускных экзаменов был ряд так называемых царских дней и в честь их военных парадов. Игорь, находясь в корпусе, должен был нести знамя. Старое боевое знамя, врученное корпусу при его основании от одного из покрытых славой пехотных полков, было тяжелым, держать его особым приемом было трудно. Несколько часов накануне парада репетировал Игорь вынос знамени и хождение с ним во главе колонны. Конечно, подлинного знамени для репетиции дать не могли, его заменили тяжелой шваброй с длинным толстым древком. А Игорь был неловкий, щуплый, узкоплечий. Все волновались, особенно офицеры ассистенты при знамени, но все обошлось хоть и не блестяще, но сносно.
|
|
Был в одном отделении со мной кадет Вербицкий. С самых малых лет и до окончания корпуса он гордился тем, что имеет тетку, в то время, пожалуй, наиболее читаемую юношеством России писательницу. Мы все о ней слыхали, но читать начали только в старшем классе, и то, как бы под полой. В самом деле, "Ключи счастья", "Горе уставшим, горе ушедшим" (кажется, так назывался знаменитый роман) и другие ее книги, не будучи лишены занимательной и неплохой литературной отделки, по своему содержанию, тенденции могли приносить только вред неоперившейся молодежи. Отвлекаясь от нити воспоминаний, скажу, что уже в советскую эпоху некоторые критики, упоминая вскользь о Вербицкой, находили в ее произведениях правду о быте и сущности эпохи реакции. Нелепость! Сгущение красок, обобщение единичных случаев, клевета и смакование свободной любви, а не реальное отображение действительности, – вот что было характерным для произведений этой старой девы.
Когда Вербицкий был в 4-м классе, его отец [Вербицкий Николай Васильевич] поступил в корпус воспитателем. Ничего плохого этот офицер в отношении кадет не делал, был скромен, вежлив, но почему-то антипатичен нам. Не пришелся, как говорят, ко двору. Через 2 года он перевелся куда-то. Сына его, нашего товарища, тоже никто не любил и жил он, средний ученик, средний гимнаст и вообще средний, обособленно от товарищеской среды.
А какие яркие, иногда приятные, а подчас тяжелые воспоминания остались у меня на всю жизнь от ряда товарищей! И не только своих близких одноклассниках, но и о многих других, учившихся в одно время со мною.
Женька Болдыжев. Стройный, ловкий юноша, один из первых гимнастов корпуса, выделявшийся даже на ежегодных летних состязаниях кадет всей России в Петербурге, прекрасный товарищ, любимый и уважаемый всеми. В 1915 году, будучи на фронте юным прапорщиком, имея уже боевые отличия, он был отравлен газами и ослеп. Встретив меня, в то время студента Института Инженеров Путей Сообщения, в Петербурге, Петров, мой бывший одноклассник, предложил пойти навестить Болдыжева в госпиталь. Не знаю, правильно ли я поступил, будучи вдали от войны, здоровым молодым человеком, не пойдя к Женьке. Я был сильно расстроен, до бесконечности жалел Болдыжева, но явиться к слепому в моем положении мне казалось неверным. Лишняя боль для него от сопоставления наших "судеб" и невозможность оказать какую-либо помощь. Может быть, я и неправ.
Шуневич* и Шувалов. Они на несколько лет старше меня. Красивые, породистые лица. Идет вечернее богослужение в нашей домашней церкви. Завтра двунадесятый праздник и все отпущенные после занятий в отпуск являются на "всенощную". По ходу службы все больше зажигается электрических лампочек, кругом все торжественно и празднично. При выносе на амвон столика пюпитра, одновременно из 2-х боковых дверей алтаря с высокими светильниками в руках выходят Шуневич и Шувалов. Все взгляды обращены на красивых, одинакового роста и чем-то похожих друг на друга юношей, ритмично идущих на середину церкви и устанавливающих перед пюпитром свои светильники. Прислуживание в церкви было обязанностью кадет 7-го класса. Подбирались видные молодые люди. Но такой "пары" ни до, ни после них не было. Шуневич и Шувалов в 1-й год войны геройски погибли на фронте.
![]()
* Шуневич Константин Андреевич не погиб во время войны, а был ранен.
|
|
На класс старше меня были два брата Мариновых [Асен и Борис] и Милетич. Братья были болгары, Милетич – серб. Началась балканская война. Дружба между 3-мя кадетами была самая тесная, их всегда видели вместе. Рядом сидели в классе, первыми и обязательно втроем бросались в читальню, упиваясь новостями о поражении турок, отступавших под совместными ударами сербов и болгар, страстно обсуждали, стоя перед картой, дальнейший ход войны. Полный разгром Турции войсками союзников был вершиной дружбы 3-х кадет. И вдруг все переменилось. Страны победители из-за противоречий, разжигаемых другими государствами, не поладили между собой. Началась война болгар с сербами и другими бывшими союзниками и даже с примкнувшей к ним бывшей общим врагом Турцией. Приехавшие в августе по окончанию летних каникул в корпус Мариновы и Милетич стали смертельными врагами. И начальство, и мы, кадеты, с грустью смотрели на бывших союзников, принимая все возможные меры, чтобы не допустить страшного исхода непримиримой вражды. Юношеские сердца получили один из первых уроков жизни. Мы конкретно почувствовали силу патриотизма и не меньшую силу национальной ненависти. Хорошую память оставили о себе кавказцы. Их было в корпусе человек 20 в мое время. Большей частью лезгины, чеченцы, грузины. Лучшие гимнасты, в массе, конечно, танцоры, замечательные товарищи, но, как правило, весьма средней успеваемости в учебе. Магомаевы [Абдул-Важид Имам и Алескандер (корпус не закончил)] – братья-лезгины – сильные, ловкие, всегда стоявшие на защите слабых, но с такими грустными глазами, точно далекие горы непрестанно вставали в их воображении даже в часы подъема настроения. Шанаев [Хаджи Мурза или Бей-Булат Адиль] – непременный дирижер вальсов и мазурок, с талией узкой и стройной, как у девушки, Кугушев, Шахназаров, Добриев [Дудар, корпус не закончил]. В корпусе были кадеты католики, два-три лютеранина, а кавказцы, в основном, магометане. Христиан неправославных водили по воскресеньям в костел или кирху, а мусульмане оставались в ротах. И только в "царские" дни на молебны после обедни всех иноверцев и их в том числе приводили в церковь. Они стояли, с недоумением и беспокойством глядя на православные обряды, и думали о мечетях, минаретах и не понимали, зачем их позвали в чуждую им церковь. Уезжали кавказцы домой только на летние каникулы. И в день отъезда можно было видеть, как грусть, еле заметная грусть в черных глазах уступала место глубокой, светящейся радости.
Преподаватели
В большинстве воспоминаний авторы, описывая свои школьные годы, очень неблагоприятно отзываются о своих учителях. Правда, почти все выдвигают одну, две фигуры педагогов, оставивших у мемуаристов светлую память. Мне кажется, что это необъективные описания. Надо было сгущать краски по тем или иным соображениям. Об этом я говорил в предисловии. В самом деле, я с полной уверенностью утверждаю, что в годы моего пребывания в корпусе учительский состав, за небольшим исключением, был вполне на месте, даже больше,– заслуживал большой похвалы. Я лично получил основу знаний, необходимых для каждого интеллигентного человека в корпусе. Мало того, там мне привили любовь к чтению (влияния семьи я, конечно, не отрицаю, но корпус содействовал развитию этой любви), там оформилось чувство товарищества, чувство долга.
Не думаю, чтобы наш корпус был каким-то счастливым исключением. Мне приходилось близко встречаться с кадетами II-го Петербургского (Александровского) корпуса, Сумского, Варшавского, Одесского, и в этих корпусах обстановка и отношение преподавательского состава к своим обязанностям в основном были аналогичны.
Постараюсь дать портреты отдельных учителей. Русский язык и литературу (у нас называлась словесность) преподавал Тычинин. Это был глубоко образованный человек, страстно любивший русскую классическую литературу, и получавший наибольшее удовлетворение, передавая свою любовь к ней нам, молодому поколению. Разбирая какое-либо произведение, он так увлекательно объяснял нам идею, заложенную автором, проводил аналогию с другими трудами автора анализируемого романа, сопоставлял с ним произведения других писателей, описывал эпоху, обусловившую создание классической вещи. Мы слушали, как зачарованные. Даже не отличавшиеся прилежанием кадеты, или любители читать на уроках посторонние книги слушали, стараясь не пропустить ни слова.
Он был не строг, но плохо приготовить урок, не ответить хотя бы удовлетворительно (не ниже 8, 7-ми баллов при 12-ти балльной системе) на вопрос Тычинина никто не мог. Его укоризненный и какой-то стыдливый взгляд был хуже плохой отметки. На каникулы он давал нам список книг, которые следует прочесть. И почти все читали.
А как выразительно читал он наших великих поэтов. Особенно любил Тычинин Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Тютчева. Но выше всех поэтов и прозаиков ставил он Льва Толстого. Знакомил он нас, вне программы, с Чеховым и даже Куприным, Андреевым, Блоком и другими писателями и поэтами современности.
Были и другие преподаватели русского языка, но я на протяжении всех лет со 2-го класса учился у Тычинина.
Математику преподавали четыре учителя. 2-х из них я знаю лично – Коваржика и Щиголева. Остальные в моем классе не преподавали. Коваржик Федор Иванович [Осипович] – чех – был оригинальный математик. Он учил нас решать арифметические задачи методом "с главного вопроса". В задаче спрашивалось, допустим,– "сколько стоил аршин проданной материи?" Для этого, по Коваржику, надо было решить вопросы – "сколько стоила вся материя?" и "сколько было продано аршин?". Для ответа на каждый и этих вопросов опять возникали новые вопросы, на которые в условиях задачи так или иначе были уже даны готовые ответы. Таким путем логически развивая мысль, ученик доходил до ответа на главный вопрос. Федор Иванович имел свой учебник по арифметике, задачник, труды по высшей математике. Объяснял он четко, ясно, но не любил повторять, вдалбливать. Требовал, чтобы у кадет работала мысль. Строг он был до предела. Единицы и двойки ставил безжалостно. Но, если кадет, имея несколько неудовлетворительных отметок, проявлял способности, мыслил логически, в четверти балл его мог быть весьма сносным. Когда Коваржик входил в класс, устанавливалась мертвая тишина. Он садится за кафедру, раскрывает журнал. Слышно, как бьются детские сердца. Черные строгие, несколько лукавые глаза отрываются от журнала, четко слышится фамилия вызываемого к доске. Все переводят дух. Вызванный отвечает уверенно. Глаза Коваржика становятся ласковей. Он ставит новые вопросы, требующие сообразительности, знания предмета, а не только прошлого урока. Увлекается, ходит по классу, доволен. Довольны и мы. Но каким язвительным смешком и суровыми глазами отмечает Федор Иванович нелепый ответ кадета или молчание на поставленный вопрос. Иногда он, войдя в класс, молча передает дежурному листки со штампом для раздачи по партам. Сам пишет мелом на доске задания для сидящих на левой половине парты отдельно, на правой отдельно. Это письменная. Обычно давалось 20 минут. При так называемой "письменной четвертной" – весь урок, т. е. 50 минут. Списать у него было почти невозможно. Это удавалось виртуозам в этом деле, и то далеко не всегда.
Я благодарен Коваржику: он был справедлив и заставлял нас мыслить. Однако не все так думали. Особенно глупые первоклассники. Многие малыши ненавидели его. И это, когда я был в 1-м классе, выразилось в следующем очень печальном событии нашей кадетской жизни.
В тот день первым уроком была арифметика. Коваржик, как всегда, точно, в 20 минут девятого вошел в класс. Сел за кафедру, подняв полы своего черного форменного сюртука, развернул журнал и вызвал одного из кадет. Вызванный пишет на доске, делает ошибку. Коваржик хочет встать с кафедры, что-то объясняя, и не может. Сначала на лице его появляется недоумение, потом он багровеет, очевидно, догадываясь, в чем дело, затем делает резкое движение и встает. Кресло приподымается вместе с ним и, отрываясь, с шумом падает. Не глядя на нас, Коваржик медленно идет к дверям, останавливается у выхода и молча, поверх голов обводит всех каким-то не строгим, но недоумевающим взглядом. Быстро поворачивается, и мы слышим его тяжелые быстрые шаги по коридору. Прошло минут двадцать. Все молчали или говорили шепотом, точно боясь, что нас подслушивают. Нам было стыдно и обидно за большого человека, так незаслуженно получившего оскорбление.
В открытую дверь входит директор, тогда полковник Попов, в сопровождении нашего отделенного воспитателя подполковника Юркевича. Все встают. Директор явно волнуется. – "Кто сделал эту мерзость?" Молчание. Снова тот же вопрос и снова молчание. –"Это позор не только для вас, это позор для всего корпуса. Здесь задета честь петровских кадет. Кто это сделал?" Что-то бормочет худенький, типа маменькиного сынка, но с нагловатыми глазами кадет Романовский. – "Вы совершили этот дикий, нелепый поступок?" – "Я", – чуть слышно отвечает Романовский. "Кто дежурный по классу?" – спрашивает полковник Попов. – "Я, господин полковник", – робким голосом говорит дежурный.
Дежурный ничего не знал. Кто виновник, кроме Романовского? Как могло быть жирно смазано синдитиконом кресло, так, что ни он, и никто другой этого не заметили. После подробного опроса Романовского в приемной у директора выяснилось, что он один сделать этого не мог. Его отправили в карцер (изолированная комната рядом с помещением дежурного воспитателя). На следующий день кавказец Тугуругов, не по летам физически развитый, заявил воспитателю, что главный виновник он, что Романовский, получивший за два дня до этого у Коваржика двойку, был только его помощником.
Кадеты были исключены из корпуса, за ними приехали родители и больше о них мы ничего не слышали.
На следующий урок Коваржик пришел, не показав даже виду, что у нас в классе было какое-то происшествие. Позднее мы узнали, что на педагогическом совете он высказывался против исключения детей, но совет решил иначе.
Вторым преподавателем математики был Щиголев Константин Григорьевич. Я у него учился 5 лет из 7-летнего пребывания в корпусе. Это был замечательный педагог, прекрасный человек, вызывавший у всех, кто с ним соприкасался, искреннюю симпатию и уважение. В годы революции он был преподавателем в Харьковском университете. Будучи весьма революционно настроен, он, при наступлении реакции, вынужден был покинуть университет и, как ни странно, принят с большой охотой преподавателем в кадетский корпус. Очевидно, считали, что общение со студентами "красного", как тогда говорили, педагога, может вредно отразиться на вольном юношестве, тогда как преподавание сухого предмета для молодежи в стенах корпуса никакого влияния на эту молодежь оказать не может. Так или иначе, но это была крупная удача для нашего заведения. Всегда подтянутый и внутренне, и внешне, в своем черном, в талию, штатском сюртуке входил в класс Константин Григорьевич. Внимательно выслушав рапорт дежурного, он, не садясь за кафедру, объявлял "порядок дня" – будет ли объяснение следующего урока, или вызов к доске, или, наконец, письменная работа. Мы не боялись Щиголева, но вели себя на его уроках прекрасно. Мы уважали, а через несколько лет просто полюбили его. Добросовестно готовившийся к каждому уроку, при кажущемся холодном характере, увлекавшийся иногда своими формулами как лирическими стихами и ведущий за собой весь класс, Константин Григорьевич был прекрасен. Он поднял преподавание математики на такую высоту, что наши кадеты впоследствии в инженерном или артиллерийских училищах, а некоторые в технических высших учебных заведениях были всегда в первых рядах.
Плохие отметки он ставил с болью в сердце и по несколько раз вызывал двоечников с целью дать хорошую или хотя бы удовлетворительную оценку в четверти. Но это были редкие случаи. Кадеты любили не только Константина Григорьевича, но и, благодаря ему, математику.
Когда я был в 6-м классе, Щиголев был зачислен штатным преподавателем корпуса и стал носить форму. Как-то не подходила она к нему, делала его чиновником. Казалось, что ему самому это не нравится. Но у него была жена, 2 дочери и вопрос обеспечения старости, будущая пенсия, очевидно, были решающим при зачислении в штат.
Окончив корпус, я дважды был в гостях у Щиголева. Милая семья, обе дочери – девушка и подросток – учились играть на рояле, а сам поэт-математик Константин Григорьевич недурно играл на скрипке.
Старик Иван Францевич Павловский. Глубоко знающий и любящий свой предмет историк. Павловский имел свои труды по истории войны со шведами, ряд монографий о Полтавском бое. Я знал его только в преклонном возрасте. Он одряхлел, но рассказывая нам о древней Греции, об эпохе Петра Великого, он становился молодым и увлекательно передавал давно прошедшие события. Кадеты прозвали его Солоном. Внешность его была представительна. Высокий, с красивым профилем, благородной наружности, он запомнился мне медленно шагающим по классу, в патетических местах рассказа сжимающим в кулак свою длинную белую бороду. На отметки он не обращал внимания. Меньше восьми он не ставил. Прощаясь, при уходе на пенсию, он прослезился. Тяжело было старику расставаться с любимой работой.
Шевелев – старик, но бодрый, с интеллигентным лицом и смотрящими как бы вовнутрь вас глазами. Шевелев был директором частной мужской гимназии, организованной на его личные средства, но всю жизнь не бросал преподавания естественной истории в корпусе. Он любил кадет, относился к ним с уважением, смотрел на них как на свою родную семью. Горой стоял на педагогическом совете за провинившихся, считая проступки и шалости делом проходящим. Но циничного отношения к женщинам, легкого отношения к половому вопросу он не выносил. Был такой случай. В 5-м классе проходили анатомию и физиологию человека. Василий Алексеевич или Васеич, как мы его звали, подробно рассказывал о зарождении человека, о половом акте. И вдруг кто-то захихикал. Шевелева передернуло. Он посмотрел на смеявшегося кадета. Сколько, не то чтобы презрения, но жалости было в его долгом взгляде! Затем он прекратил объяснять урок, раскрыл журнал и вызвал виновника прекращения интересной лекции. Когда при переходе в 6-й класс был экзамен по естественной истории и пришла очередь этому кадету тянуть билет, Шевелев вышел из класса, оставив ассистентов, и возвратился только при сдаче экзамена виновником срыва урока несколько месяцев тому назад. Он не мог быть объективным, но и не хотел портить кадету отметку, идущую в аттестат (в 5-м классе курс естественной истории заканчивался).
Очень характерной фигурой был преподаватель географии Лопатинов. Он обожал свой предмет. Бывшие у него на дому имели возможность насчитать не менее 5 тысяч томов книг, из которых подавляющее большинство было географического содержания. А сколько фотографий и репродукций, альбомов, различных коллекций было у Лопатинова в его квартире! Мы звали его "Карарра". Он многократно бывал в Италии и с таким восторгом рассказывал о каррарском мраморе! Каждый год Лопатинов во время летних каникул отправлялся заграницу. Свои богатые наблюдения и впечатления от виденного и слышанного он передавал нам в красочной форме. Благодаря Лопатинову я с ранних лет полюбил географию, всегда искал случая ознакомиться с новыми городами, с незнакомыми мне нравами и обычаями людей других мест и народов.
Странное сочетание противоречий было в этом педагоге. Он любил пространно и образно передать нам содержание урока, совершенно не придерживался учебников. И в то же время, диктуя нам основные положения рассказанной темы, он исключительно лаконично формулировал свои мысли. На всю жизнь запомнились некоторые записанные мной краткие фразы. Вот примеры: "В России реки имеют правый берег высокий, левый низкий – отсюда рыбность", или говоря о климате нашей страны: "Возврат морозов в мае". Часто он предлагал кадету на заданную тему написать реферат, давал пособия, общее направление. Среди других тем, которые доставались на мою долю, помню "Историю развития кавказских курортов и их лечебное значение в настоящее время" и еще "Кустарная промышленность в России". Мы писали рефераты в свободное время, большей частью во время вечерних занятий.
Однажды, когда я был в 5-м классе, придя утром в корпус, я услышал от сотоварища по фамилии Максимович: "Лопатинов умер". Я остолбенел. Только за два дня до этого он обещал мне дать интересную тему для реферата, был такой бодрый и живой, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет. И вдруг Лопатинова, нашего любимого "Каррары", нет. Не хотелось верить словам Максимовича. Но это была правда. Через 2 дня мы хоронили одного из любимых наших учителей. При последнем отпевании (так называлась церковная служба) в нашей корпусной церкви и выносе тела присутствовал весь состав кадет, учителей, воспитателей. На ступеньках широкого выхода из здания разместился оркестр, игравший "Коль славен наш Господь". Гроб вынесли коллеги педагога. Когда медленным шагом двинулись лошади, впряженные в катафалк, весь усыпанный венками и живыми цветами, оркестр заиграл похоронный марш. В полном составе сдвоенными рядами шел за катафалком батальон кадет. Родных у Лопатинова было мало, но, вероятно, никто из учителей, офицеров и свободных от дежурства служителей не остался дома. Проводив покойника до установленного места (в начале одной из главных улиц Полтавы – Малопетровской), кадеты остановились и после традиционного "Коль славен" повернули к зданию корпуса. Похоронная процессия продолжила свой путь на кладбище.
И вот Лопатинова нет. Через некоторое время к нам в час, назначенный по расписанию для урока географии, явился совсем молодой человек, красивой наружности, высокий и стройный, щеголевато одетый с университетским значком на груди. Это был неплохой преподаватель, но разве мог он выдержать сравнение с опытным, знающим жизнь различных стран в натуре, влюбленным в свой предмет стариком "Каррарой".
Все чаще заглядывали мы в учебник 4-х авторов – "Груббер, Григорьев, Барков и Черданов" (кажется, так были фамилии авторов, но не ручаюсь). Особенно часто вспоминали мы Лопатинова при прохождении в 7-м классе корпуса "экономической географии".
Оставили неплохую память и священник-академик "отец Сергий" – Четвериков, преподававший Закон Божий, добрый и нравственный человек, без капли елейности и поповства и подполковник Люсин, кончивший Академию Генерального штаба.
Я очень хорошо помню "отца Сергия", и не только в качестве культурного преподавателя, как не вяжется этот эпитет с саном священника, но и в его роли именно как священника, т.е. во время совершения богослужения.
Удивительно просто, обычным голосом, без всякой рисовки или нарочитой приподнятости, пафоса, но искренне, убежденно он проводил православную службу. Уже потеряв веру, я, слушая "отца Сергия", подпадал под его влияние и как-то внутренне становился чище. Особенное воздействие священник имел на наши юные сердца во время великого поста (семь недель до праздника Пасхи). В этот пост кадеты говели, старшие – на первой неделе, младшие – на четвертой. Со среды ходили в церковь, в пятницу "исповедовались", в субботу "приобщались". Священник в черном простом одеянии с одной епитрахилью совершал великопостную службу и своей худой фигурой и одухотворенным лицом с жидкой черной бородкой особенно импонировал нам. При произнесении медленно, с глубоким чувством особой молитвы Ефрема Сирина (поэтически переложенной в стихи Пушкиным) "Господи и Владыко живота моего", мы все, до самых шалунов, бывали растроганы. На исповеди он ничего не выпытывал, был скромен, порядочен и как-то задушевен и грустен.
Во время причастия, блистая праздничным одеянием, разливал на окружающих спокойный, радостный свет. Это был редкостной души человек, любящий отец семейства, искренне и хорошо относящийся ко всем людям. Такие священники, конечно, представляли собой довольно редкое явление. И вот что – православное богослужение, я уже отмечал это в начале своих записок, при соответствующем священнике действительно оказывало сильное воздействие на людей, и не только на верующих. В этом смысле небезосновательно окрестили его названием "опиум народа". Это воздействие родилось не сразу, оно создавалось и укреплялось веками.
Подполковник Люсин – учитель физики, механики и космографии. Высокий, затянутый в хорошо сшитый военный сюртук, облегавший его стройную фигуру, моложавый генштабист хорошо знал преподаваемые им дисциплины и умел привлечь внимание кадетов. Мы любили его уроки. Излагая какую-либо теорию, Люсин время от времени шуткой или оригинальным афоризмом встряхивал слушателей и освежал внимание уставших кадет. Навсегда запомнилось мне символическое изложение закона Ома. "Вольт гонит Ампера через Ома", – формулировал полковник, ссылаясь на профессора харьковского университета. Часто занятия проводились в специальном, богато оборудованном машинами, приборами, диаграммами физическом кабинете.
Интересный у Люсина был помощник по этому кабинету – старый служитель-лаборант. Он без всякого указания Люсина мог подготовить любой опыт и в процессе его показа дать необходимые пояснения, сделать выводы. Конечно, это не было глубоким знанием физики как науки, но демонстрант он был великолепный. Люсин любил прихорашиваться, и мы разными способами, зная его неравнодушие к хорошеньким гимназисткам, высмеивали эту черту. Он не обижался и, кажется, был даже доволен.
Несколько слов об одном из преподавателей французского языка – Мариньи (были еще Пердризе, Жаке и Парижская – русская, очень хорошенькая молодая особа). Это был бывший офицер французской армии. Волей судеб он оказался учителем в корпусе. Красивый, элегантный, он не был согласен с методикой преподавания языка, установленной Управлением военно-учебных заведений. Француз считал необходимым усвоение в младших классах разговорного языка, после чего находил нужным изучать сложную грамматику. Программы же требовали знаний спряжений, склонений и в конечном счете освоение чтения à livre ouerte с переводом французского на русский, т. е. беглого чтения любого текста, преимущественно военного содержания и перевода со словарем. Думается, что Мариньи был прав. Я лично, поступив в корпус, мог неплохо изъясняться по-французски, но постепенно, без практики, забыл разговорную речь, хотя и переводил довольно бегло. Те же, кто не занимался иностранным языком в детстве, выносили из корпуса весьма небольшие знания. И все же со всей прямотой скажу, что эти знания были гораздо большими, чем те, которыми обладают сейчас кончающие десятилетку и даже технические ВУЗы.
|
|
Связано с Мариньи и еще одно воспоминание. Этот француз на летние каникулы уезжал на родину во Францию. Не раз, желая доставить кадетам удовольствие, расширить кругозор и предоставить практику в разговоре по-французски, предлагал он директору с согласия родителей взять с собой человек десять кадет в путешествие по Европе. Полтава–Киев–Львов–Вена–север Италии–Ривьера–Париж–Берлин–Варшава–Полтава – вот маршрут поездки сроком на полтора месяца. Условия – 100 рублей с кадета и разговор в путешествии на французском языке.
Увы! Мои родители и думать не могли о предоставлении мне такой суммы, да и если б помогли родственники, так почему только одному мне.
Но и зажиточные родители не очень шли навстречу этому заманчивому, полезному предложению Мариньи. Подбиралось человек пять-шесть, но по финансовым соображениям требовалось вдвое больше. Все же однажды поездка удалась, но из нашего класса участников в ней не было.
Химию преподавал сам директор корпуса Николай Петрович Попов, а после его ухода в отставку один из корпусных врачей – Левченко. Химия, как отдельный предмет, проходилась в 7-м классе. Я слушал Левченко. Довольно бездарный врач и такой же преподаватель. Мы любили занятия в химическом кабинете. Как бы выполняя программные опыты, мы занимались интересующими нас реакциями, не заботясь о законах и формулах предмета.
Законоведение вел высокий прокурор полковник Коленко. В сущности, этот предмет охватывал ряд юридических дисциплин юридического факультета. Мы слушали, разумеется, в кратком изложении и историю римского права, и энциклопедию права и основные положения уголовного и гражданского права. Сюда же входили и вопросы этики и государственное устройство России. Однако при всей беглости и краткости курса необходимые, элементарные представления в области юриспруденции кадеты получали.
Жалок был один из учителей немецкого языка Гроссберг, "последний из могикан", как звали его кадеты, остаток педагогов времен директора Потоцкого. Правда, и второй преподаватель немецкого языка – Грюн – был не менее жалок. В отличие от старой развалины Гроссберга Грюн был энергичен, умен, обладал педагогическими способностями. Но во времена того же Потоцкого, разозлившись на Грюна за его вечные жалобы начальству на плохое поведение кадет, "старики" (в бытность Потоцкого директором так называли сидевших в одном классе по 3 года) в буквальном смысле слова спустили его с лестницы. Забыв самолюбие, только придя в себя, Грюн побежал в учительскую и громогласно объявил о своем падении. Замять это дело было нельзя. Даже генерал Потоцкий, при всей своей слабости и благодушии, вынужден был исключить из корпуса 5 человек великовозрастных кадет. Грюна не любили, даже презирали, и он это знал.
А какие интересные типы воспитателей были при Потоцком! Очень немногие из них уцелели с приходом Попова.
Подполковник Эмних*. Толщина этого старого, добродушного человека не имела границ. Казалось, двигается какая-то туша, заслоняя собой солнечный свет, не оставляя места в широких коридорах. Он дремал на вечерних занятиях, а подчас и днем. Немыслимо было представить себе его руководителем занятий фронтом, гимнастикой, стрельбой. Он был воспитателем в отделении, где учился брат Андрей. Доведя отделение до выпуска, он ушел в отставку. Интересно, что этот старый и как будто полуживой человек был любитель театра. Говорили, что он старался не пропустить ни одного спектакля, даваемого в нашем городском театре гастрольными труппами. Мало того, он ставил иногда в корпусе спектакли, разыгрываемые преимущественно кадетами младших классов. И ставил неплохо. У него были две премиленькие дочки, примерно моего возраста и Эмних вовлекал их в постановку детских спектаклей. Сын его** учился в корпусе, был годом младше меня, живой и хорошенький мальчик.
![]()
* На мой взгляд, в своем рассказе о подполковнике Эмнихе автор мемуаров объединил информацию о двух офицерах ППКК: собственно о Викторе Лукиче Эмнихе, который действительно был офицером-воспитателем у Андрея Шапаровского, и о Федоре Петровиче Никушкине, командире 4 (младшей) роты корпуса. Подполковник Эмних продолжал службу в корпусе до октября 1914 г., когда ушел на фронт, а полковник Никушкин в 1911 г. был произведен в генерал-майоры с увольнением от службы по возрасту.
** У подполковника Эмниха было два сына: старший Виктор закончил корпус в 1911 г., в 1916 г. был награжден Георгиевским оружием; младший Игорь закончил корпус в 1915 г., погиб на фронте 29 мая 1916 г., посмертно награжден орденом Святого Георгия IV степени.
Такой же по внешности, но совершенно не имевший физиономии был ротный командир Квитковский. Были еще два-три офицера, доживавшие при Попове свои служебные дни перед выходом в отставку.
Но основной офицерский костяк во время моего пребывания в корпусе был подтянут, омоложен, в большей части соответствовал своему назначению.
Подполковник Порай-Кошиц, мужчина лет сорока с черной бородкой, гибкий, стройный, хороший руководитель гимнастики и фехтования и культурный, справедливый, хотя и очень строгий воспитатель.
|
|
Капитан (когда я поступил в корпус, он был еще нештатным поручиком артиллерии) фон Кнорринг – красавец, высокого роста, с вьющимися темными волосами и подстриженными по тогдашней моде усиками, также гимнаст и фронтовик, но в то же время любитель математики. Он не только смотрел спустя рукава на курение кадет в старших классах, но, очевидно, помня свое недавнее пребывание в этих же стенах, знал, что запрещение курить не поможет и иногда сам покупал кадетам табак. Говорили, что имея красавицу жену, он почти не бывал дома, проводя вечера в офицерском собрании или в клубах за игрой в карты. Так или иначе, он был любим кадетами и его отделение по всем показателям (как принято выражаться в наше время) было одним из первых.
|
|
Капитан фон Коссарт – воспитатель, очень вежливый, воспитанный, с мягкими манерами, старавшийся сделать все возможное для кадет своего отделения и никогда не доводивший поступки своих воспитанников до высшего начальства. Одной из отличительных черт Коссарта была страстная любовь к хоровому пению. Он подбирал не только участников церковного хора, но и менее голосистых кадет и организовывал светский хор. Пели после вечерних занятий у него на дому, разучивали преимущественно русские и украинские песни, а иногда и оперные хоры. Прекрасно звучал на кадетских вечерах хор, исполнявший "Закувала та сива зозуля", "Вниз по Волге реке", дуэты "Де ты бродишь, моя доля", "Мой миленький дружок" и другие вещи. Мы любили ходить на спевки к фон Коссарту – и петь было приятно, и в домашней обстановке побыть и выпить чаю с бутербродами и печеньем.
Ротный командир 3-ей роты (3-ий и половина 4-го класса – одно из двух или трех отделений) полковник Ромашкевич. Он, кажется, только ночевать приходил домой. Весь день занимался хозяйством роты, следил за подгонкой обмундирования, за пополнением нательного и постельного белья, за чистотой помещения, качеством ротного инвентаря. В то же время это был хороший фронтовик, впервые организовавший для своих малолетних питомцев (13–14 лет) учебную стрельбу из мелкокалиберных винтовок.
Он знал фамилии кадет всей своей роты, кто как занимается, чем интересуется и не забывал их, когда они переходили в следующую по старшинству 2-ую роту.
Неплохую память по себе оставили воспитатели Бужинский, Чемезов, Пономаренко.
Совершенно особенной фигурой был Николай Николаевич Купчинский. Когда я поступил в 1-ый класс, подполковник Купчинский был воспитателем во 2-м классе, т.е. в нашей роте малышей. Второклассники предупреждали нас, новичков, что это очень суровый и даже жестокий офицер и советовали во время дежурства его по роте "держать ухо востро". Действительно, этот офицер не терпел разгильдяйства, недисциплинированности, был исключительно требователен, сух и не делал скидки на малолетство. Кадеты его отделения относились к нему с уважением, но и боялись его. Директор Попов с первого года пребывания в корпусе отмечал его. Перейдя в 4-ый класс, я еще в бане, куда мы после каникул являлись прежде всего, с ужасом узнал от товарищей, что "Бурбон", как все в корпусе, кроме кадет его отделения, называли Купчинского за его приверженность к фронту, назначен командиром второй роты. А в этом году четвертый класс полностью отходил во вторую роту. Радость перехода в более старшую роту вместо пребывания еще в течение года в 3-ей была омрачена. Иметь своим командиром Купчинского казалось весьма неприятным.
В 1-ый же день – 16 августа – произведенный летом в чин полковника Купчинский перед выстроенной в зале ротой произнес речь о воинском долге, о дисциплине, о необходимости закалять свой характер, о чести кадета. Казалось, жизнь наша будет нелегка, придется сильно подтянуться. Но время шло, и мы стали замечать, что обещанная "закалка" нам начинает нравиться. Мы как-то серьезнее относились к своим занятиям, мы действительно стали подтягиваться и внутренне и внешне, и это подтягивание не встречало противодействия с нашей стороны. Сильная воля командира, разумное воспитание, направленное исключительно в наших интересах, производили свое благотворное действие. Интересно, что в части выправки, четкости строя, в разумном восприятии дисциплины наша 2-ая рота стала обгонять строевую 1-ую роту.
Купчинский ввел длительные прогулки в поле, несмотря на ту или иную погоду, игры в разведчиков, применение к условиям лагерной обстановки и т.д.
Меня, как приходящего, он недолюбливал, особенно после одного, в сущности, маловажного случая. Как-то глубокой осенью поздно вечером я шел из дому на 9-тичасовую спевку хора к фон Коссарту. Отец мой провожал меня до самого корпуса. Был сильный туман. Подходя к зданию, я увидел шедшего навстречу офицера, но лица его в темноте, да еще при тумане не разглядел. Отдаю честь, не становясь во фронт, как следовало при встрече со своим ротным командиром и иду с отцом дальше. "Шапаровский не видит", – слышу в ужасе голос Купчинского. "Полковник Купчинский не видит", – говорит отец – генерал-майор. По воинским правилам младший в чине не может делать замечания в присутствии старшего. Купчинский промолчал. Мы пошли дальше. Конечно, Купчинскому это было неприятно.
Когда я перешел в 6-ой класс в 1-ую строевую роту, надо было переходить на жизнь в корпус, имея отпуск только после занятий в субботу и до вечера в воскресенье. Начиналась для меня новая жизнь, с уютной домашней обстановкой в семейном кругу было покончено. Мы были определены во взводы, над нами были командиры – вице-унтер-офицеры и фельдфебель из кадет 7-го класса, нам были выданы настоящие винтовки драгунского образца; уходя из корпуса, мы надевали на пояс штык, нам разрешали носить прическу, словом, мы уже были не дети – кадеты строевой роты.
И Купчинский в это время был назначен командиром 1-ой роты и батальонным командиром корпуса.
Бывший до него командиром 1-ой роты и батальона полковник Быков, богатый полтавский помещик, пожилой человек, ничем не примечательный как воспитатель юношей, мало любивший свое дело, ушел в отставку*. Этот малоинтересный, по крайней мере, по нашему мнению, неопределенного характера полковник приходился родственником великого русского писателя Гоголя. Возможно, что из-за его личных качеств мы не имели к нему интереса, не выясняли точных связей Быкова с Николаем Васильевичем. Имение его было совсем недалеко от Полтавы. Как-то в начале сентября полковник, не знаю уж из каких побуждений, решил пригласить кадет четырех старших классов посетить его имение. Был полдень субботнего дня, когда с оркестром музыки мы отправились за город походной колонной. Стояла прелестная погода ранней осени. Прозрачный воздух, напоенный ароматом спелых яблок разнообразнейших оттенков желтого, оранжевого и красноватого цветов, матерински ласкающие лучи уже холодеющего солнца, вся красота увядающей, но еще не уснувшей украинской природы волнующе действовала на молодые души. Опьяненные дарами лучшей поры года, но не усталые, прибыли мы в прекрасный сад владельца имения и были предоставлены сами себе. Легкая закуска, яблоки с любого дерева были предложены гостеприимным хозяином в наше распоряжение. К нам вышел родственник хозяина, также один из людей, с гордостью могущий назвать себя связанным с фамилией Гоголя, молодой человек Головня. Он занимал нас интересными рассказами, любезно указывал на лучшие сорта яблок! Прогулка удалась на славу. Поздно вечером вернулись мы в Полтаву.
![]()
* Полковник Быков не вышел в отставку, а был переведен на должность командира 3 роты. Ротным командиром Георгий Владимирович оставался до 1920 г., когда умер от тифа во Владикавказе, куда Полтавский корпус был эвакуирован в 1919 г.
Итак, командир первой роты – полковник Николай Николаевич Купчинский. Все были рады оставаться еще на два года, т.е. до окончания корпуса под его командой. Был доволен и я, хотя чувствовал с его стороны скрытую неприязнь ко мне. Он, хорошо знавший каждого из нас, чувствовал мою нелюбовь к военной службе, мою, в сущности, недисциплинированную и довольно ленивую натуру, мое стремление к вольной жизни.
В 1-ой роте подтягивание кадет еще усилилось, дисциплина стала строже. При своем скрытом протесте против военщины я не мог не сознавать пользы от такого воспитания и для здоровья, и для закалки характера. Окончив корпус и облачившись сейчас же после последнего экзамена в штатское платье, я по принятому обычаю обмениваться с любимыми начальниками и товарищами фотографическими карточками без заранее принятого решения подошел к Купчинскому и просил дать мне его фотографию на память. Тут же я подал свою, экспромтом, но искренне отмеченную благодарственной надписью. Лицо Николая Николаевича, сначала удивленное, стало необычно мягким. – "Постойте, Шапаровский, я с удовольствием принимаю Вашу благодарность и отвечу Вам. Он сел, взял из стола свою фотографию и, не задумываясь, быстро написал следующие слова: "Жизнь – суровая школа, я старался Вас подготовить к ней. Счастлив, что вы поняли меня и сохранили обо мне хорошее воспоминание. Храни Вас Бог!".
Через 2 месяца началась русско-германская война. В первые же дни Купчинский подал заявление о желании идти на фронт. Ему была предложена должность батальонного командира в Елецком полку, в котором он начинал военную службу. С первым же эшелоном полка полковник Купчинский был отправлен на фронт. Через 2 месяца в Полтаву пришло известие о награждении его высшим орденом – георгиевским крестом, а еще через месяц в корпусе отмечали назначение Н.Н. Купчинского командиром его родного полка.
Не расходились мужественные слова жесткого, сурового офицера воспитателя с его делами. Дальнейшей его судьбы я не знаю, но память о нем не погасла в моем сердце.
Не могу не упомянуть, как на энергичном, мужественном, несколько суровом лице Николая Николаевича мы, мальчишки, увидели однажды увлажненные слезами глаза. Это никак не вязалось с нашим представлением об этом, на наш взгляд в те годы, черством казенном человеке в офицерском мундире.
Шла осень 1910 года. Уже несколько дней вся читающая Россия и даже мы, отроки и безусые юноши, ловили в газетах известия об ушедшем из дому Льве Толстом. Единодушно желали благополучного разрешения духовного конфликта великого человека с окружающей его средой, жизнью. Но вот, 7-го ноября Толстого не стало. Точно оборвалось что-то в душе, точно часть сердца отнялась. Ушло в невозвратимое прошлое озарившее жизнь величие и гордость России, русского человека.
Учителя и воспитатели переменились в лице, разговаривали пониженными голосами, затихли шалости и крики кадет. На уроках преподаватели читали отрывки из произведений великого писателя.
После завтрака кадет старших четырех классов повели в зал І-ой роты (свого рода актовый зал корпуса). Молча ожидали мы прихода директора. Медленно, при абсолютной тишине вошел генерал Попов в зал, долго не в силах начать говорить, смотрел на печальные лица воспитанников. Наконец, начав тихим голосом, с перерывами, слово в память Толстого, директор произнес искреннюю, глубоко прочувствованную речь. У многих на глазах были слезы, другие опустили головы, как бы стыдясь своих переживаний.
"Почтим память великого писателя земли русской молчанием", – закончил свою речь директор. И тут, взглянув на Купчинского, мы увидели неожиданные слезы, затуманившие строгие глаза его.
Вспоминая этот печальный для русского интеллигента, для всякого русского человека, кроме жалких отрепьев общества – черносотенцев, чистых клерикалов и тому подобной публики, день, не могу не отвлечься в сторону.
Передо мной роман Валентина Катаева "Хуторок в степи". На первых страницах романа талантливый, весьма популярный писатель, описывает, как воспринималась его современниками смерть Толстого в Одессе. И, в частности, гимназии, где учился Катаев. "В гимназии было так же темно и траурно, как и на улице. Никто не шумел, не бегал по лестницам. Разговаривали вполголоса, как в церкви на панихиде. На переменах сидели на подоконниках и молчали. Ученики старших классов – семиклассники и восьмиклассники – собирались кучками на лестничных площадках, и внизу возле швейцарской. Они тайно шуршали газетами, которые вообще строго запрещалось приносить в гимназию. Уроки тянулись чинно, тихо, с однообразием, сводящим с ума. Часто в стеклянную дверь класса заглядывал инспектор или кто-нибудь из надзирателей. На их лицах было написано одно и то же выражение холодной бдительности." и т.д.
А дальше пишется о тяжелом противоречии мира казенной гимназии (педагогов, служителей), с тем великим и страшным, что происходит за стенами гимназии, в городе, в России, на всей земле.
Как это не похоже на то, что пишу я, на то, что с полной ясностью запечатлелось в моей памяти на всю жизнь, и в части внешней стороны этого страшного дня, и в части впечатлений, пронизавших душу тринадцатилетнего отрока, подростка.
Наши учителя и воспитатели не засматривали в классы с выражением холодной бдительности, а, охваченные тяжестью события, вместо уроков читали нам произведения Толстого; директор произнес речь, вызвавшую еле сдерживаемые рыдания не только у нас – юношей, но и у взрослых педагогов и офицеров; нам давали в старших классах газеты и журналы, конечно, не левого направления, нас воспитывали в духе любви к русской литературе и к ее признанному великому корифею Льву Николаевичу Толстому. Где же правда, Валентин Петрович?
Или в глухой, провинциальной Полтаве, тем более в кадетском корпусе, были более развитые, образованные, я бы сказал, передовые педагоги, чем в крупном центре – Одессе. Или в вашей гимназии было сборище мракобесов и подхалимов, а в военно-учебном заведении служили сплошные либералы. Полноте, не в этом дело. В захолустной Полтаве во всех учебных заведениях, разве кроме духовной семинарии и епархиального училища в той или иной степени была отдана дань великому русскому писателю и человеку. А в Одессе? Может быть, гимназия, где Вы учились, была исключением, а в других этот прискорбный день отмечался иначе, может быть. Но думается, Валентин Петрович, что Вы неискренни в этой части художественных воспоминаний, изображаете события тенденциозно, по меньшей мере, искривляя действительность. И тогда это нехудожественно, исторически неверно, а, следовательно, вредно. Мнения, освещение событий, взгляд на них может быть разным, но факты должны быть правдивы.
В тяжелые минуты жизни образ Купчинского не раз придавал мне бодрость и силы.
* * *
Со 2-го класса до окончания корпуса моим офицером воспитателем был подполковник Илиодор Станиславович Пржедзецкий, сменивший переведенного в Одессу Юркевича.
Приехавший в Полтаву из Варшавы, где он также был воспитателем в суворовском корпусе, Илиодор Станиславович ничем не был примечателен. Он был неглуп, добр, хорошо относился к кадетам, характер у него был ровный, спокойный. Но в нем не было ни одной особенности, он не имел ни одной черты характера, хорошей или дурной, которая, будучи резко выражена, выделяла б его индивидуальность. Кадеты относились к нему хорошо, но глубокой любви не питали. Интересно, что все воспитатели, учителя имели от кадет какое-то прозвище, Пржедзецкий его не имел. Ко мне он относился хорошо и в своих характеристиках, направляемых родителям при сообщении им сведений об отметках в четверти, правильно подмечал изменения в моем поведении. К сожалению, у меня сохранились только два тонких листка. После второй четверти во 2-м классе Пржздзецкий писал: "Учится и ведет себя хорошо. Тих, скромен, воспитан, к старшим почтителен". В другом сохранившемся сообщении отмечено: "Учится и ведет себя хорошо. Стал несколько болтливым и крикливым". В самую точку. Увы, это не были временные черты моего характера, они имели тенденцию к развитию и в дальнейшем и причинили мне немало неприятностей и огорчений в жизни. Через много-много лет, работая на Челябинском тракторном заводе, хорошо относившийся ко мне главный бухгалтер Василий Антонович Тюсманов (ныне нач. финансового отдела Московского областного Совнархоза) неоднократно говорил: "Александр Митрофанович, язык Ваш – враг Ваш". А моя приятельница, вернее, друг, Нина Константиновна Коссобудская, в двадцатых годах не раз смеялась – "у нас с Шурой (это обо мне) языки болят, когда мы молчим". Совсем недавно, в июне этого года, увидевшись с Ниной Коссобудской в Москве после 25-летней разлуки, вспоминали мы эти слова. Но справедливость требует сказать, что в настоящее время ко мне это относится в 10 раз меньше в сравнении с Ниной.
* * *
Прошло время; после выпуска кадеты разошлись в разные стороны. Вскоре пришла война, за ней Октябрьская революция, взорвавшая старый строй, старую жизнь. Куда забросила судьба оставшихся в живых после империалистической и гражданской войн питомцев корпуса и их наставников? "Иных уж нет, а те далече". Мало о ком я хоть что-нибудь слышал, и еще меньше тех, с кем привелось увидеться.
Герой и инвалид русско-японской войны, подполковник Бужинский при оккупации немцами Полтавы работал поденщиком на огороде; мой воспитатель Пржедзецкий, готовившийся покинуть корпус и стать воинским начальником где-то в Новгородской губернии, в тяжелую эпоху оккупации открыл со своей женой (раньше ее звали "недотрога") маленькое кафе-кондитерскую на Стрелецкой улице в Киеве, но вскоре, как говорили, умер. Красавец фон Кнорринг, по слухам, эмигрировал с семьей за границу. Подполковник Чемезов, уже после организации Советской власти на Украине, работал в каком-то Губпродкоме или Губсовнархозе. Кое-кто из сверстников кадет закончил молодую жизнь в белой армии. Так, в киевских газетах было сообщение о павших в бою под Армавиром, среди опубликованных была фамилия Умыруко-Запольского. Он был все семь лет приходящим (как редчайшее исключение); закончив корпус на год раньше меня, поступил в университет. Каким образом он оказался в списках офицеров сводного гвардейского полка убитых под Армавиром – неизвестно. С одним своим одноклассником, но из параллельного отделения, я встретился при довольно необычных обстоятельствах.
В 1922 году я заведовал секцией интеллигентного труда Киевской губернской Биржи Труда. Мне часто приходилось замещать систематически арестовываемого при выборах в горсовет или в других случаях заведующего Биржей Труда, бывшего эсера Зеттеля Зусмана Исааковича. В то время к нам присылали для регистрации в качестве безработных возвратившихся из-за рубежа бывших белых офицеров. Они должны были явиться, прежде всего, к заведующему Биржей. Как-то, при очередном аресте Зеттеля, я принимал безработных в своем кабинете, похожем на проходной двор. Очередь была огромная. Оторвавшись от пачки документов, представленных мне какой-то истеричной женщиной, я взглянул на жалкие фигуры стоящих безработных, какими-то грустными, просящими глазами смотревших на меня, и, вдруг, заметил простое невыразительное лицо, напомнившее мне что-то родное, далекое. Сомнения не было – это был Никифоров, 7 лет пробывший со мной в параллельном отделении в нашем корпусе. Маленький, невзрачный, учившийся ниже среднего, он был известен как великолепный токарь по дереву. Все свободное время Никифоров занимался в мастерской ручного труда, увлекаясь столярным делом. Какие прекрасные шахматные столики выходили из-под его рук, гербы, значки и т.д., служившие украшением зал во время вечеров. Он же спроектировал при окончании нашим классом корпуса выпускной жетон.
Достаточно было мимолетного взгляда, и мы оба узнали друг друга и оба поняли это.
Настала его очередь. Он подал мне бумагу, в которой указывалось, что бывший белый офицер Никифоров подлежал регистрации на Бирже Труда. Внешне совершенно спокойно я прочел бумагу, написал резолюцию в стол регистрации и вежливо отдал бывшему товарищу его документы. У него не было никакой профессии – чернорабочий. Сердце у меня сжалось. Через несколько дней, получив срочное требование на некоторое количество чернорабочих от завода дубильных экстрактов, я вышел в соседнюю комнату (в секции чернорабочих народ в основном уже разошелся) и, как это часто бывало при срочных вызовах, прочел требование завдуба. Здесь обыкновенно ожидали таких требований остро нуждающиеся безработные; они уходили только при закрытии Биржи. Человек 20 подало карточки. Среди них была карточка Никифорова с отметкой "ббо" – бывший белый офицер. И грустно мне было направить старого товарища на тяжелую, грязную работу, и радовался я за него – там была очень высокая зарплата. Все подавшие карточки, в том числе и Никифоров, были посланы на работу. Раза три получал Никифоров временную работу на завдубе. Потом больше я его не видел. То ли его оставили на постоянной работе, то ли … да мало ли что могло с ним случиться!
* * *
С ранних лет я боялся смерти. Увидев похороны, я начинал думать, что и мне надо умереть и долго не мог отогнать от себя мрачные мысли. Иногда совсем пустячное событие наводило на меня похоронное настроение. А когда случалось мне заболеть, да еще попасть в лазарет, тяжелые предчувствия не давали мне ни минуты покоя. С трудом можно поверить, что это абсолютно верно, что в отроческие годы, временами, конечно, мысли о смерти преобладали над всеми другими. В 1-м классе я дважды попадал в корпусный лазарет. Однажды, придя утром из дому, я заметил, что у меня болит горло. Дежурный воспитатель направил меня в лазарет. Смерили температуру, осмотрели горло и уложили в постель. Я был не то, что огорчен, я был убит. И не тем, что болит горло, что я болен, а тем, что надо было остаться в большой палате на 8 кроватей одному, спать не дома и, как стало мне казаться, возможно, умереть забытому всеми в этом ужасном лазарете. Кстати, лазарет был вовсе не ужасен, наоборот – в прекрасной палате IV роты была поразительная чистота, масса света и воздуха, великолепные, на мягких сетках, кровати и т.д. Не знаю, что бы я сделал, но к вечеру прибыл в лазарет кадет 2-го класса весельчак Самовский, болтавший без умолку, не ожидая моих ответов. Приносили есть, приходил с осмотром доктор, являлись фельдшера (кандидаты на классную должность – полуинтеллигенты, как правило, лучшие друзья кадетов). Все это проходило мимо, не задевая меня. Мысли, одна тяжелее другой, прямо обуревали меня. Я думал: сейчас дома все сидят в столовой за чаем; папа читает газету, мама разливает чай, братья и сестры разговаривают друг с другом; скоро все пойдут спать и никто не представляет себе, как мне тяжело в лазарете, как близок я к смерти, когда мне так хочется жить! Так или примерно так думал я в тот осенний вечер. Пришел служитель и надел на лампочку над круглым столом посреди палаты темный матерчатый абажур. Стало полутемно и еще более одиноко. Сомовский быстро заснул. Проплакав немало времени, заснул и я. На следующий день была суббота. Старшие братья придут в отпуск. Еще сильней захотелось домой. Когда явился доктор, я сказал, что горло у меня не болит. Температура была нормальная. Он дал указание выписать меня после обеда, но с запрещением выхода на улицу в течение 3-х дней. После обеда, переодевшись, я быстро, чуть не бегом, отправился в роту и заявил дежурному воспитателю, что мне можно идти домой. Чем-то отвлекшись, он не посмотрел выданную мне лазаретную бумагу и отпустил из корпуса. Быстрее лани я добежал до дому. Все обрадовались, но удивились, как могли меня отпустить. Только мое малолетство и недавнее пребывание в корпусе спасло от неприятных последствий за самовольный поступок.
В другой раз я и Коля заболели корью и четыре недели провели в заразном отделении лазарета. Каждый вечер я просил Колю помнить, что если я умру ночью, то последней моей мыслью были мысли о доме. Как-то раз мне приснилось, что я умру в 79 лет. Я проснулся в возбужденном радостном настроении и несколько дней вовсе не думал о смерти. Глядя со стороны на живого и болтливого мальчика, никто бы не подумал о глупых, но тяжелых переживаниях, владевших им так часто.
С 1-го класса тесная дружба связывала меня с товарищем по классу – Дубровским. Он был второгодник, по болезни, значительно крупней и мужественней меня. Будучи оба приходящими, мы всегда отправлялись вместе домой и по дороге, как бы шутя, учили заданные на завтра уроки. Его все любили и побаивались. Он считался первым силачом в классе. Неоднократно Дубровский защищал меня от грубых шуток некоторых из сотоварищей. В IV-м классе Дубровский заболел аппендицитом. Пролежав в лазарете некоторое время, после произведенной неудачно операции Дубровский умер. Смерть его подействовала на меня удручающе. Вернувшись домой после похорон (наше отделение проводило товарища на кладбище), я просто места себе не находил. Твердая уверенность, что и я скоро умру и непременно от аппендицита, не покидала меня. Вскоре у меня начались сначала легкие боли в правом боку, затем, правда, с перерывами, боли стали усиливаться, пришлось обратиться к врачу. Ничего обнаружено не было. Так продолжалось до 6-го класса, когда Пржедзецкий потребовал созыва консилиума. Оба врача корпуса и двое приглашенных со стороны долго ощупывали и расспрашивали меня, запретили сильные движения, отдельные виды гимнастики, но определенного диагноза не поставили. Не буду здесь много об этом распространяться, скажу только, что при каждом осмотре врачей моего желудка я выражал уверенность в наличии у меня аппендицита, но врачи категорически отвергали эту болезнь. Жизнь показала, что я был прав. Я хочу в этом месте лишний раз показать, как тот или иной случай или событие возвращали меня к мысли о смерти.
Вспоминается мне еще одно событие, на этот раз трагического характера, сильно отразившееся на моем общем самочувствии.
После рождественских каникул кадеты возвращались в корпус вечером в день праздника "Крещения" 6-го января (по новому стилю 19 января). Были в корпусе 3* брата по фамилии Чеснок. Младший брат [Георгий Андреевич] был со мной в отделении, старшие в 6-м [Николай Андреевич] и 7-м [Михаил Андреевич] классах. Братья приехали с каникул 6-го днем**; так приходил поезд из Константинограда (теперь Красноград). Народу в ротах было немного. Большинство еще не приехало. И вот, в четыре часа дня, вскоре после обеда, в зале 1-й роты раздался выстрел. Проходившие перед залом два второклассника (зал 1-й роты, своего рода актовый зал корпуса был не в помещении роты, а находился на 2-м этаже между 1-ой и 4-й ротами), услыхав выстрел, заглянули в зал и увидели лежащего на полу возле рояля кадета. В ужасе побежали дети в свою роту и сообщили об этом дежурному воспитателю. Когда воспитатель и ряд кадет вошли в зал, раздался второй выстрел, но, кроме лежащего в луже крови кадета 6-го класса Чеснока, там никого не было. Была немедленно вызвана медицинская помощь, явились дежурный 1-ой роты, кадеты старших классов и среди них семиклассник, брат Чеснока. Осмотрели самоубийцу, он был уже мертв. Очевидно, смерть наступила мгновенно. Причина самоубийства для нас осталась неизвестной. Братья рассказывали, что он был очень весел на каникулах, что вообще не соответствовало его обычному состоянию, в то же время часто уединялся, не объясняя причин ухода от общества молодежи, которая на Рождество собралась в гостеприимном доме родителей. При прощании с отцом и матерью проявил особую нежность и даже прослезился, что тоже было несвойственно его характеру. В дороге все 3 часа был молчалив и рассеян.
![]()
* В корпусе учился и четвертый брат - Чеснок Александр Андреевич, окончивший корпус в 1915 г.
** В "Материалах к истории ППКК с 1-го октября 1908 г. по 1-е октября 1909 г. Год шестой" А. Д. Ромашкевича сказано, что Николай Чеснок застрелился 5 апреля 1909 г. Отпевание состоялось 7 апреля.
Выяснилось, что он самостоятельно сделал подобие пистолета, но, предполагая возможную неисправность этого оружия, приготовил что-то вроде запальной пушки. Фитиль от этого своеобразного орудия Чеснок зажег перед выстрелом из пистолета. Очевидно, рассчитывал, стоя возле рояля, в случае осечки, подставить грудь под второе смертельное сооружение и тогда уж быть убитым наверняка.
Не могу не сказать несколько слов о других братьях Чеснок. Старший [Михаил], красивый юноша, блестяще закончил в том же году* корпус вице унтер-офицером и, поступив в Михайловское артиллерийское училище с не менее блестящим успехом, был выпущен офицером. Младший [Георгий], бывший со мной, серьезный и нелюдимый подросток, а затем юноша, учился весьма посредственно, но был музыкально одаренным. Играя на всех духовых инструментах, в 7-м классе был назначен старостой оркестра, для которого сочинил с полной аранжировкой несколько маршей, вальсов и более серьезных пьес. О его дальнейшей судьбе после окончания корпуса я ничего не знаю.
![]()
* Михаил Чеснок окончил корпус не в 1909, а в 1910 г.
* * *
Вечера, праздники и развлечения
Одним из приятных воспоминаний о времени пребывания в корпусе навсегда остались наши кадетские вечера. Несколько раз в году в корпусе устраивались вечера. Для кадет 1-ой роты по традиции открытие зимнего сезона было установлено в царский день (так назывались нерабочие дни, связанные с именинами – тезоименитством – царя, царицы, вдовствующей императрицы Марии Федоровны и наследника, с днем рождения этих же лиц, а также день коронации и день восшествия на престол царя Николая ІІ-го) 5-го октября по старому стилю. Затем 21-го октября вечер устраивался для второй роты. Разумеется, обе роты приглашали друг друга в качестве гостей. Три вечеринки были на Масленицу – для 1-ой, 2-ой и 3-ей роты. Кроме того, 3-го января была общекорпусная елка. Но вершиной всех увеселений являлся бал для всех кадет в день именин царя 6-го декабря.
|
|
Длительное время вечера были только танцевальные. Но когда Попова сменил новый директор генерал-майор Клингенберг, положение изменилось. Клингенберг установил как обязательное правило устройство перед вечерами и вечеринками, а иногда и в виде самостоятельного праздника музыкально-вокально-литературного отделения – концертов.
Как правило, участниками концертов были кадеты, но принимали участие и преподаватели музыки и даже кто-то из воспитателей.
Это было очень удачным нововведением. Нас увлекала возможность выступить перед публикой, перед родными, знакомыми… Мы с большой охотой участвовали в любительском хоре, духовом, струнном и симфоническом оркестрах. Мы разучивали сценки из классических пьес, декламировали стихи. Большой любовью пользовалась у нас мелодекламация: "Князь Репнин" Алексея Толстого, "Ваза" Апухтина и ряд других. Играли и соло на скрипке (в частности, мой приятель Петров), на корнет-а-пистоне и т.д. Учитель "по классу", как говорят в консерватории, скрипичных инструментов часто выступал с сольными номерами на виолончели.
Концерты были разнообразны и содержательны. Клингенберг – толстый, краснощекий, сидя в 1-ом ряду, благосклонно аплодировал и был доволен. Довольны были и мы.
После концертного отделения в дни вечеров начинались танцы. Играл оркестр одного из полков полтавского гарнизона. Оркестр состоял не менее, чем из 35-40 человек музыкантов. Я любил слушать и смотреть на играющих музыкантов, стоя подолгу рядом с пюпитром капельмейстера. В старших классах я сам участвовал в корпусном оркестре, играя на валторне. Это очень пригодилось мне впоследствии.
Танцы открывались полонезом. Директор и почетные гости стояли в глубине зала, в стороне, противоположной оркестру, колонна танцующих проходила мимо них как на параде. В первой паре вел свою даму главный дирижер танцев. У дирижера были помощники, сменявшиеся через некоторое время. Эти распорядители вечера дирижировали во время фигур вальса, мазурки. Красивый бант из широких муаровых лент то с длинными до полу, то с короткими, в зависимости от моды, лентами был отличительным украшением дирижеров. Были и другие отличия – розетки для распорядителей по буфету. Банты и розетки готовили, как правило, гимназистки Мариинской гимназии. Надо сказать, что они старались не ударить лицом в грязь, особенно, если знали, для кого персонально эти атрибуты готовятся.
После введенного Клингенбергом полонеза начинался традиционный вальс. Среди относительной тишины звонко, молодо раздавался по залу голос дирижера: "Monsieurs, angagé vos dames pour valse generale!" Оркестр играет вступление. С нетерпением не только танцующая молодежь, но и почтенные родители (в подавляющем большинстве мамаши приглашенных девиц) ожидали, чем в этом году угостит публику почтенный маэстро капельмейстер. Каждый год появлялся новый вальс. Я помню "На сопках Маньчжурии", "Амурские волны", "Майский сон", "Лесную сказку", "Осенний сон", "Разбитая жизнь" (сейчас идет под названием "Старинный вальс"), "Тоску" (сейчас "Тоска по родине"), "Грусть", "Оборванные струны" – в память умершей в том году талантливой артистки Веры Федоровны Комиссаржевской, "Березку" и другие до сих пор любимые молодежью вальсы.
В младших классах я был очень застенчив, не танцевал, но страстно любил слушать всегда несколько грустные мелодии вальса, который только местами, как бы стряхнув с себя настроения печали, в каком-то упоении рвется к любви и счастью.
Когда-то прабабушки моего поколения вальсировали под звуки Ланнеровской музыки. С течением времени вальс становился все более разнообразным, технически усложненным. Своей вершины в части инструментовки, техники разработки темы вальс как бальный танец достиг у Штрауса. Но при всем блеске Штраусовских вальсов, при всей их бодрости и веселье они не задевали душу, не создавали […]. Они покоряли немецкие характеры, более простые и цельные, чем, во всем противоречивые, но более глубокие и сложные характеры русских людей. Появились вальсы Вальдтейфеля. Это был композитор французской школы. И как ни странно, у него было меньше блеска, менее виртуозности, но больше лирики, настроения. И вот, вальсы времен моего отрочества и юности. Разве сложны в части темы, оркестровки эти вальсы? Как правило, они просты в музыкальном отношении до предела. Но сколько в них настроения! Даже никто не собирался сочинять их или перекладывать для оркестра, разыгрывавшего венские вальсы. Они писались для духового оркестра капельмейстерами этих же оркестров, не умудренных в делах гармонии и контрапункта. Однако прошло полвека, и их передают по радио, их исполняют в поездах, на пароходах и т.д. Они любимейшие танцы у значительной части современной молодежи. Первые робкие слова, а подчас только взгляды или как бы нечаянные пожатия рук сопровождались в мои годы бархатными звуками баритона или увлекательным взлетом деревянных инструментов.
Стройные юные девушки в гимназической форме или в светлых нарядных платьях кружатся с кавалерами, в большинстве кадетами. Лица оживлены, движения легки и грациозны. (Какая противоположность как бы застывшим чертам лица и, часто, неуклюжим движениям у современной "клубной" молодежи). Все в перчатках – дамы в лайковых, кавалеры в замшевых; редко у кого нитяные. Держат себя все танцующие так, что ни у одной почтенной мамаши, строго следящей за своей дочкой и ее кавалером, не возникает каких-либо порицаний. Но, несмотря на наблюдающее око, все держат себя просто, всем весело.
Танцуют Пампадур, Па-д’эспань, Венгерку, Хиавату, Краковяк, Китаяночку, Коханочку, Кармен, Миньон, Польку-бабочку, Эспаньолу и, конечно, мазурку. Чем проще танец, тем больше танцующих. Краковяк (новый), Миньон, Кармен танцевали сравнительно меньше, а во время мазурки танцорам было совершенно свободно. Считалось, что этот танец надо или танцевать вполне умело, а, значит, красиво, или смотреть, как танцуют другие. А было на что посмотреть! Конечно, дирижеры могли показать "класс" этого трудного танца! Но были и другие, вызывавшие восторг зрителей. Как правило, хорошо танцевали кавказцы. Стройные, ловкие, подтянутые, с изяществом и в то же время с непринужденной лихостью вели они свою даму, выделывая различные колена. Показывали свое умение и заезжие гусары, уланы и драгуны – братья кого-либо из кадет.
Во время мазурки и вальса при общих фигурах разносили бархатные подушки с бантами, обезьянками, орденами и другими котильонными украшениями. Дама прикалывала кавалеру на мундир выбранный ею сувенир, кавалер отвечал тем же. Дирижировали танцами на французском языке (преподаватели французского перед вечером проверяли произношение новых дирижеров).
Угощение на вечеринках и вечерах было скромное. В классах, устроенных под столовые, предлагался чай из грациозного самовара с печеньем и кондитерскими тортами. Родителей, сидящих вокруг зала, обносили конфетами, крымскими яблоками и другими фруктами. В живописно устроенных в помещении классов гротах, русских избушках, мельницах и т.п. в изобилии предлагали лимонад, морс.
Как приятно, проголодавшись к концу вечера, сбегать, бывало, в полутемную столовую, где на каждом столе были разложены на тарелках полагавшиеся по рациону на ужин холодные котлеты, сыр или что-либо в этом роде. Ей-богу, даже в обычные дни невкусная котлета, в эти праздничные вечера казалась почему-то превкусной.
Когда некоторых кадет приглашали на вечера в гимназии, чувствовался недостаток в угощении. Кроме прохладительных напитков там угощения не бывало, во всяком случае, мне не приходилось его видеть. Исключение представляли только Институт благородных девиц да 2-ая мужская, так называемая дворянская гимназия. Там имелись для этого казенные средства.
3-го января – в корпусе елка. Большая часть кадет разъехалась по домам. Остались кавказцы, не уехали те, для родителей которых билет на проезд представляет значительную сумму или по другим причинам. Их немного, но их больше всего жалко. Всегда старались доставить уныло бродящим по коридорам кадетам, сведенным в одну роту, доступные им развлечения. Водили группами в оперу или драму, смотря по тому, какая труппа гастролировала в городском театре, на каток; старшие, по приглашению начальницы института, посещали елку или бал в институте благородных девиц. Устраивались чтения с показом, так называемых, туманных картин и т.д. Но гвоздем рождественских каникул была елка в корпусе. К ней готовились все, украшали громадный зал (примыкавшая к залу 1-ой роты спальня 4-ой роты освобождалась от кроватей), паркет натирался до зеркального блеска (это, конечно, делали служители), развешивались картины и портреты, обновлялись шторы, занавески и гардины. В середине ставилась елка, густая, свежая, высотой до потолка, приносились специальные лестницы, масса стеклянных и картонных украшений, и все старались принять какое-либо участие в ее убранстве. Елка была лучшей в городе. Обильно усеянная разноцветными огнями (увы, электрическими лампочками!), она была сказочно прекрасна.
Все, проводившие каникулы в Полтаве, конечно, приходили полюбоваться елкой и потанцевать. Концертного отделения 3-го января не устраивали. Этот рождественский вечер носил семейный характер.
Самым замечательным днем в году для всего корпуса был день 6-го декабря – Николин день. Это был день основания Петровского полтавского кадетского корпуса. Кроме того, это был царский день – день именин Николая ІІ.
В сущности, празднование этого дня начиналось накануне. Торжественная служба в церкви. Приглушенным шагом в разные двери входят в церковь одна за другой роты кадет в выходных мундирах. Только несколько человек первой роты выделяются обыденным красным воротником, вместо шитого золотом. Это лучшие по отметкам и поведению семиклассники, мундиры которых взяты в швальню для нашивки к утру изящного галуна вокруг погона – отличия вице-унтер-офицера.
Наш корпусный церковный хор, усиленный запасными хористами, располагается не на правом клиросе, как обычно, а на высоко расположенных хорах. Певчих не видно, но как торжественно, празднично, а, главное, необыкновенно звучат детские дисконты и молодые юношеские басы и тенора.
В церкви много, необычно много посторонних. Это старые кадеты, приехавшие со всех концов России на праздник своей школы. Тут и камергер в белых штанах с золотым лампасом и ключом, висящим как кортик, тут и гвардейские офицеры разных чинов и родов оружия в своих блестящих парадных мундирах, тут и скромные армейцы, и несколько штатских. Стоят они на возвышении, вроде террасы, идущем по всей противоположной алтарю стене церкви.
Служба идет медленно, но, против обыкновения, никто не скучает, не видно прикрытой рукой зевоты. Необычность обстановки и торжественность разгоняют скуку.
Делая отступление, я со всей искренностью скажу о себе. Никогда я не скучал на наших корпусных вечерних службах. Правда, посещать церковь вечером требовалось уходящим в субботу, в отпуск. Только перед большими, так называемыми двунадесятыми праздниками, а их было немного, но я любил эти вечера. Необыкновенно красивые песнопения: "Свете тихий", "Хвалите имя Господне", "Слава в вышних Богу" и другие трогали душу и доставляли музыкальное наслаждение. Вовсе не нужно быть религиозным человеком, чтобы чувствовать красоту православной службы, главным образом, церковного пения. В эти вечера производился обряд миропомазания. Рота за ротой длинной вереницей подходили к середине церкви, где священник так называемым елеем мазал крест на лбу каждого подходящего. Елей имел очень приятный запах розового масла. После миропомазания целовали крест и возвращались на свое место. В это время хор пел красивые вещи. Было светло и радостно.
В конце службы старичок, но бодрый и живой, регент хора, он же учитель пения Ризенко Иван Николаевич, выходил с клироса на амвон. Все становились на колени и под управлением Ивана Николаевича хором в 500 голосов пели "Под твою милость прибегаем, Богородице, Дево". Так, с этим чувством радости шел я домой, принося с собой все еще не ушедший аромат елея.
Но продолжаю о корпусном празднике. После церковной службы 5/XII многие из отпускных кадет не уходили домой, как обычно перед праздником, а оставались в корпусе. День этот был особенным. Возвращаясь в роту, шли пить чай, усиленный добавочным блюдом (кроме обычных вечерних котлет, сыра или 2-х яиц, подавался стакан компота или сдобная булочка, и т.д.). После чая делились впечатлениями, говорили о завтрашнем дне. Наступало время, и все укладывались в постель. Казалось, все стихло, все спят. Но в 1-ой роте это только казалось. К одиннадцати часам то в одном, то в другом месте с кровати вставала фигура, стараясь не шуметь, надевала поверх нижнего белья мундир, и выходила в коридор. Собиралось несколько десятков кадет, когда-либо остававшихся в классе на второй год. Их называли "майорами". Кто за время пребывания в корпусе оставался два раза в одном классе, считался "дуплет-майором". Было два-три человека в седьмом классе "триплет-майора". Вот, эти майоры, сделав себе на погонах соответствующее число нашивок из рогожи, взяв новую швабру, из коридора приходили на площадку, а оттуда в зал 1-ой роты и устраивали "парад майоров". Принимал парад старший по возрасту из "триплетов", следующий за ним по старшинству командовал парадом. В телесного цвета трикотажных кальсонах и в застегнутых на все пуговицы мундирах, при произносимой вполголоса команде, проходили церемониальным маршем со знаменем-шваброй второгодники перед своим самым старшим, но далеко не самым умным товарищем. После марша начинался самый важный момент ночного собрания. В книгу, переплетенную в сафьян, in folio (размером в лист), называвшуюся книгой "Звериады", должны были быть вписаны новые строфы. "Звериада" велась много лет. Никто не знал, когда ее начали, откуда переняли. Но по традиции каждый выпуск должен был вписать в эту "библию" свои стихи. Начиналась "Звериада" так:
Державной волей Николая*
Воздвигнут мрачный монастырь,
Вершину к небу простирая,
Стоит он словно богатырь.
Но в нем не иноки святые,
И не монахини живут.
Тот монастырь по всей России
Кадетским корпусом зовут.
Когда наш корпус основался,
Тогда разверзлись небеса,
Завес церковный разорвался,
И были слышны голоса:
Курите, пейте, веселитесь,
Посадят в карцер – не беда.
Учить уроки не трудитесь,
Не выйдет толку никогда.
и т.д.
![]()
* Имеется в виду Николай І.
Между прочим, в "Звериаде" давались характеристики воспитателей, учителей, рассказывалось о примечательных событиях текущего года.
Был у нас подполковник Гальслебен. Он до прокурора Коленко преподавал законоведение. Гальслебен очень следил за своей наружностью и носил усы à la Вильгельм ІІ-ой. Кадеты его краткое пребывание в корпусе запечатлели таким куплетом:
Прощай, Кольславен симпатичный,
Тебя прославим всюду мы,
Твой кашель нежно-гармоничный,
И вверх торчащие усы.
Большей частью в "Звериаду" вписывались уже заранее приготовленные четверостишия, но бывали и экспромты. По окончании церемонии триплет-майор произносил подобающую случаю речь и все тихо проходили в роту и укладывались спать. Воспитатели, конечно, знали об этом "параде майоров", но делали вид, что ничего не замечают. Такова была сила традиции.
В половине восьмого утра на площадке 2-го этажа, между старшей и младшей ротами, вместо обычного сигнала горниста или барабанного боя раздавались мощные звуки "зори", исполняемой духовым оркестром. Все быстро вставали, умывались, чистили сапоги и пуговицы. Настроение было приподнятое. После утреннего чая оркестр обходил, играя туш. Под звуки оркестра качали, высоко подбрасывая, именинников, произведенных в вице-унтер-офицеры, а то и просто кого попало. Мне приходилось подлетать под потолок. Но не было случая падения или удара, все обходилось благополучно.
В девять часов 15 минут строились, являлся ротный командир, поздравлял с праздником, читал приказ по корпусу. В 9.30 все шли в церковь. Обедня была еще торжественней, чем вечерня. Ярко горели люстры, гирлянды лампочек по всем сводам, в высоте, над иконостасом блистал огнями крест. Хор исполнял новый концерт.
В короткий срок спальня IV-ой роты преображалась в большой зал. По окончании церковной службы в нем собирались все роты, выстроенные для парада. Не было только строевой 1-ой. Отведенные для старых кадет, питомцев корпуса, места быстро заполнялись. И вот вдали раздавались звуки барабана и труб. Затем все стихало и только мерный, точный шаг сотни кадет нарушал тишину. Это шла первая рота.
С винтовками "на плечо" в зал входили стройными рядами, четко отбивая шаг, старшие кадеты. Рота выстраивалась во главе батальона. Команда "смирно". Оркестр играет встречный марш. Торжественно вносится старое знамя. Оркестр продолжает играть. В зал входит директор; после рапорта батальонного командира директор обходит роты, здоровается с кадетами, поздравляет с праздником, 1-ая рота держит винтовки "на караул". Сердца кадет готовы выпрыгнуть от восторга.
Музыка прекращается. Директор произносит речь. Клингенберг не Попов, он не умеет говорить речи, старается скорей закончить здравицей Николаю ІІ-ому. Звучит гимн. Мощно, величественно раздаются звуки гимна, сливаясь с многоголосным "ура" кадет, молодых и бодрых. Опять тишина, небольшая пауза. По команде "к ноге" глухо стучат о пол винтовки. Раздается команда "Старые кадеты – под старое Петровское знамя!" Знаменщик с офицерами-ассистентами становится во главе колонны. Прибывшие на праздник старые кадеты (среди них есть и молодые офицеры, а иногда и студенты) кое-как выстраиваются непосредственно за знаменем. Оркестр играет самый старый в русской армии марш преображенцев. Печатая шаг, за старыми кадетами проходит перед директором 1-ая рота, за ней 2-ая… Все более высокими голосами отвечают роты на приветствия принимающего парад. Звонкие, совсем детские голоса малышей IV-ой роты завершают парад.
Короткий промежуток, и роты идут в столовую. Вид ее необычен. Стены украшены портретами и батальными картинами, иначе поставлены столы. Бросаются в глаза батареи бутылок, расставленных на столах. Это всего только мед, превкусный, но почти безалкогольный напиток (крепость 1–1,5°). Перед каждым прибором старших стоит большая бутылка, у младших – одна на двоих. На тарелках лежат слоеные пирожки и завернутая в конвертик порция конфет-смеси.
Подают бульон, на второе традиционный гусь с мочеными яблоками, на сладкое пломбир. В продолжение всего обеда играет наш духовой оркестр, исполняются увертюры, попурри. Участники оркестра не в накладе, они получают 2-ую порцию конфет, меда и слоеных пирожков. Со 2-го блюда начинаются речи начальства и "старых кадет", читаются присланные со всех концов России телеграммы. Обед проходит "в дружественной, сердечной обстановке".
Вернувшись в роты, отпускники (в этот день, кроме полтавских жителей, отлучались на два часа в город все кадеты старших классов) торопятся надеть шинель и явиться к дежурному, чтобы рационально использовать оставшееся до вечера время. Кто спешил вручить приглашения на бал, кому надо было выстирать бальные перчатки, кто хотел побольше насладиться редким случаем погулять с приятелем по главной улице, зайти в магазин, встретиться с "дамой сердца".
8 часов вечера, бал. Волнуются дирижеры. На площадке стоят группами кадеты, ожидающие прихода гостей. Полтавская красавица – Вальховская с нестарой еще матерью является одной из первых. Скромно, со смущенными лицами подымается по лестнице trio сестер Погореловых. Со стыдом вспоминаю, что, завидев их внизу, я старался скрыться с площадки. То ли друзья будничных дней, не отличавшиеся красотой, не импонировали мне на фоне блестящей бальной обстановки, то ли социальное положение отца смущало меня в те годы, но на вечерах я старался не афишировать своей дружбы с ними, реже попадаться на глаза. Не оправдываясь, должен сказать, что все они хорошо танцевали и, как правило, без кавалеров у стенки не сидели – это успокаивало меня.
Раньше других являлись сестры Горяновы. Старшая, очень интересная особа, по возрасту уже не подходила к юношам-кадетам, но не пропускала ни одного вечера. Говорили, что ей доставляло удовольствие покорять молодые сердца. Одевалась она сверхмодно, почти экстравагантно, шокируя этим старомодных родителей.
Приезжала Наташа Власенко – любимица кадет, Валя Оголевич. Валя была очень хорошенькая. Узнав, что она просила познакомить меня с нею, я был очень польщен. В дальнейшем я вместе с несколькими другими товарищами бывал частым гостем у них в доме. Увы, там я впервые попробовал и стал наравне со взрослыми пить водку (мне было только 16 лет!).
Все больше и больше приезжало приглашенных. Раздаются звуки полонеза. Бал начался. "Старые кадеты", действительно старые, участвуют в этом старинном танце-шествии. Гвоздем бала 6-го декабря была выпускная мазурка. Танцевали ее только кадеты 7-го выпускного класса, но танцевали все. Так уж было заведено. Хочешь не хочешь, а танцуй и знай, что на тебя будут глядеть тысячи глаз. Заблаговременно, и на уроках танцев, и в свободное время учили танцевать мазурку всех неуклюжих, застенчивых. Добивались удовлетворительного исполнения основных "па" и безвредного участия в общих фигурах. На выпускную мазурку каждый заранее приглашал даму, недели за две. У кого не было знакомых девиц, тем подбирали даму товарищи, также договариваясь с нею заблаговременно.
Обыкновенно играли мазурку из обычного нотного репертуара полковых оркестров. В мой 1913 год кому-то пришло в голову танцевать выпускную под мазурку из "Ивана Сусанина" (В то время опера шла под названием "Жизнь за царя"). Эта музыка, великолепная для сцены, мало подходила к бальной мазурке нашего времени. У многих на лице выразилось смущение, ведь мы были не готовы танцевать под музыку Глинки. Но, делать нечего! Только бы не осрамиться! Поправив висевший на цепочке от пуговицы погона, впервые надетый, выпускной жетон, символ старшего кадета, не позволявший ударить лицом в грязь, при первых звуках мазурки я подошел к выбранной мною даме – Зиночке Мирошниченко.
Я только два или три раза встречался до этого с Зиночкой, на вечере 21-го октября и на вечерах в женской гимназии, где Зиночка также была выпускной восьмиклассницей. Приглашение на мазурку послал я своей даме за 10 дней до бала по почте в вежливых и почтительных тонах. Она ответила согласием. Этот надушенный листок в конвертике я долго хранил.
Зиночка была не красавица, но очень хорошенькая. Невысокого роста, но и не крошка, стройная, с каштанового цвета волосами и серо-голубыми, чуть-чуть косыми глазами.
Я подошел, она доверчиво, с легкой милой улыбкой, как бы ободряя меня, подала руку. В мазурке я был средний танцор, я как-то стеснял себя в исполнении многих колен. Но в тот вечер, не сводя глаз со своей дамы, я, забыв о стеснении, свободно и, как говорили товарищи, совсем неплохо, танцевал под мазурку Глинки. Особенно трудно было каждой паре пройтись соло меж двух рядов, стоящих в ожидании своей очереди танцоров.
Я благодарил Зиночку, танцевал с ней еще раза два в этот вечер, чувствовал себя не влюбленным в нее, но нежно расположенным.
Вскоре наступило Рождество, потом последняя учебная для 7-го класса четверть, выпускные экзамены. Мне было не до свиданий с Зиночкой. Встретив ее как-то на улице (я шел не один), я поклонился, вернее, отдал честь, приложив руку к козырьку фуражки, как нам полагалось здороваться на улице, но, очевидно, в глазах моих не было ожидаемой нежности, Зиночка удивленно приподняла брови, как-то смущенно кивнула и прошла мимо. Милая девушка! Я вел себя не так, как следовало, чем-то обидел ее. Больше в те годы я ее не видел. Мы встретились с нею только через много-много лет. Но об этом после.
Нельзя забыть еще один бал, по всей обстановке отличный от всех остальных. Был 1909 год. В конце мая, при разъезде на летние каникулы, всех кадет предупредили о необходимости к 23-му июня собраться в корпусе для участия в торжествах, посвященных 200-летию Полтавской битвы. 27-го июня был знаменательный для России день. Все явились вовремя. Отвлекусь от темы. Шли дни подготовки к торжествам. Об этом надо рассказать подробней. Полтава хорошела не по дням, а по часам. Заканчивалось строительство новых домов, асфальтировались тротуары, улучшались мостовые, устанавливались новые фонари, разбивались газоны и цветники. Особенно много работ было проведено на поле, где происходил Полтавский бой. Там установили много памятников, отметили места расположения войск – русских и шведских, в Шведской могиле – большом кресте, установленном на очень большой и высокой братской могиле павших русских воинов, вырыли что-то вроде грота и устроили настоящую церковь с иконостасом, переложили гранитные ступени и ограду лестницы, ведущей на вершину могилы; построили новое здание исторического музея, посвященного эпохе Петра и подробностям сражения; выстроили большую, красиво оформленную архитектурно, и богатую внутренним убранством церковь; построили гостиницу и всякие другие здания, словом, действительно, по-настоящему, отдали дань великому событию в жизни России.
Приезжих было много. Помимо отдельных лиц, делегаций со всей страны, в Полтаву заблаговременно прибыло много войск. В составе батальонов прибыли Преображенский, Семеновский полки – первые "потешные" войска Великого Петра, измайловцы, сводные эскадроны от всех кавалерийских полков, участников Полтавского боя, многие другие пехотные части, в полном составе Ингерманландский* полк (он был расквартирован недалеко от Полтавы) и т.д.
![]()
* Имеется ввиду 10-й гусарский Ингерманландский Его Королевского Высочества Великого Герцога Саксен-Веймарского полк, который был расквартирован в г. Чугуеве Харьковской губернии. В торжествах принимал участие и 9-й пехотный Ингерманландский Императора Петра Великого полк, но в 1909 г. он был расквартирован в г. Калуге.
В тот год лето было знойное. В сильную жару войска репетировали военный парад на поле битвы. Участвовала в репетициях и наша первая рота (я в то время только перешел в 3-й класс). Характерно, что немало случаев было тепловых и солнечных ударов у рослых, как говорили, саженных, гвардейцев, но ни одного выхода из строя наших кадет отмечено не было.
Каждая гвардейская часть маршировала под звуки своего полкового старинного марша. Кадеты репетировали к предстоящему прохождению перед государем под марш старейшего полка – преображенцев.

Прибытие Государя Императора на торжества
200-летия Полтавской победы. 26 июня 1909 года.
Накануне 27-го июня в Полтаву прибыл Николай II, ряд великих князей, придворных, министров. Хорошо помню печальной памяти военного министра Сухомлинова, бодрого, несколько полного, но живого генерала в форме лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. У кадет старших классов, с которыми соизволил побеседовать на корпусном плацу этот влиятельный царедворец….. (на полях неразборчиво!)
Начальник Главного управления военно-учебных заведений великий князь Константин Константинович приехал раньше. Он почти весь день проводил с кадетами. Его любили кадеты. Он был прост и ласков. Память у Константина Романова, впрочем, как и у большинства Романовых, в том числе и у царя, была исключительной. Приезжая в корпус через несколько лет после последнего посещения, он точно помнил фамилии кадет, с которыми сказал когда-то несколько слов. А ведь они возмужали и изменились за эти годы. Это, конечно, очень нравилось кадетам. Шутил, смотрел гимнастические упражнения, писал автографы на подаваемых ему со всех сторон евангелиях (книга о христианском учении, выдаваемая в собственность каждому кадету в год его поступления в корпус), подымал малышей и сажал себе на плечи (рост у него был необыкновенно высокий). Этот великий князь был поэтом. Отдельные его строки можно слышать до сих пор – "Растворил я окно, стало душно невмочь" – романс, музыка Чайковского, "Умер бедняга в больнице военной, долго родимый страдал" и другие. Имелись у него и драматические произведения, напр. "Царь Иудейский", поставленный в Эрмитажном театре для узкого круга посетителей, и др. Писал он под псевдонимом К°.
Наступил день 27-го июня. Утром всем участникам полтавских торжеств, в том числе и нам, кадетам, вручили бронзовые медали с изображением Петра І-го и надписью на оборотной стороне: "А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы только Россия" – слова из приказа войскам перед Полтавским боем. Медаль была на голубой, Андреевской ленте. Не имея колодок, мы путем картона и английской булавки сейчас же прикололи медали на новых гимнастерках. Трудно передать, с какой гордостью носили мы, совсем еще дети, эти медали. По тогдашним правилам при выходе на улицу солдаты, юнкера и кадеты должны были обязательно носить полученные награды, значки и другие отличия. Офицеры надевали ордена и медали только на парадах и в других торжественных случаях (кроме Георгиевского креста и ордена Владимира, которые носились постоянно. Моя медаль, также, как и значки, и жетон, погребена в 1920 году в недрах особого отдела в г. Киеве. Об этом после.

Николай II обходит строй полтавских кадет. 27 июня 1909 года.
На грандиозном параде младшие три роты были зрителями. Нашей радости не было предела, когда мы увидели в многотысячной колонне войск нашу 1-ую роту, стоящую впереди всех полков и эскадронов. Прибыл Николай II с многочисленной свитой. Тысячи приглашенных гостей и жителей Полтавы любовались парадом полков потомков героев исторического боя. Во все времена вплоть до нашей эпохи военные парады являются эффектным зрелищем, привлекают много зрителей. Парад 27-го июня имел особое значение. С чувством гордости за свою Родину, ставшую великой после разгрома войск непобедимого до того Карла XII, с чувством глубокой любви и преклонения перед русским народом и его славной Армией, возглавляемой царем Петром, маршировали юноши-кадеты корпуса, носящего имя Великого преобразователя России. И нам, птенцам гнезда Петрова, как говаривал директор Н.П. Попов, передавалось это чувство. Не будет искренним, если не сказать, что в то время величие России, слава ее воплощались для нас в стоящем в окружении свиты и представителей иностранных держав невысоким, с подернутыми туманом глазами, бесцветном полковнике в Преображенской форме – Николае II-ом – императоре и самодержце Всероссийском.
Вечером город сиял огнями иллюминации. Горели плошки, электрические транспаранты, устраивались фейерверки. На улицах играли оркестры. Особенно людно было у вновь открытого в этот день памятника полковнику Келлену, коменданту города, отстоявшему с малочисленными войсками от шведов и Мазепы Полтаву до прихода армий Петра.
|
|
Утром 28-го были организованы приемы царя в Дворянском собрании, в новом великолепном здании Губернской Земской управы. Между прочим, передавали, что, обращаясь к государю с речью, председатель Губернской Земской управы, известный всей Полтаве Лизогуб, упомянув о событиях 1905 года, употребил слово "революция". Николай II резко поправил его: "Революции в России, слава Богу, не было, были беспорядки" и был очень недоволен Лизогубом. Этот земский деятель, если не ошибаюсь, был впоследствии Председателем Совета Министров в правительстве гетмана.
Как я уже писал, днем несколько часов приезжая публика, во главе с царем, провела на кадетском плацу.
Вечером в корпусе состоялся блестящий бал. Было много гвардейских офицеров, участников парада, Константин Константинович и некоторые другие члены царской фамилии, родные кадет, на этот раз в значительной части мужчины. Мы, малыши, старались не танцевать, не попадать под ноги и только смотрели на незнакомую нам публику. Было на что посмотреть!
29-го у нас состоялся акт. И до этого времени, и после корпус не знал подобных актов. Это было несвойственно традициям и порядкам в кадетских корпусах. В присутствии многих гостей и всего состава кадет заседавшая за установленным на возвышении в зале столом комиссия под председательством Великого князя вызывала отдельных воспитанников к столу и награждала их книгами и великолепно оформленным "Похвальным" листом в честь празднования 200-летия Полтавской Победы. Награды получило человек 20-25. В числе отмеченных был и я. Вызванный директором одним из первых, я смущенно прошел между рядами стульев под взглядом тысячи глаз и остановился перед столом, глядя на Великого Князя. Выдавая мне лист и книгу, Константин Константинович спросил: "Это твой старший брат Шапаровский с большими красивыми глазами?" Он говорил о Володе, которого несколько лет тому назад заметил и назвал "глазуном". – "Так точно, Ваше Императорское Величество, мой брат Владимир". Все улыбнулись. Я поклонился и прошел на свое место. К сожалению, полученные реликвии затерялись в бурном потоке жизни.
30-го июня кадеты вновь разъехались на каникулы. Вечера, балы, торжественные праздники были нечастым явлением. Это учитывалось начальством. Для нормального всестороннего развития молодежи, наряду с умственной работой и физической тренировкой, совершенно необходимо и, как принято выражаться в наше время, и культурное обслуживание. В 1-ой роте имелся граммофон с набором разнообразных пластинок. Были записи Шаляпина, Собинова, Смирнова, Неждановой, Ершова, Збруевой и других артистов из славной плеяды певцов лучшего времени русской оперы.
Кадет, участвующих в оркестре и хоре, изредка водили в театр; выставки различного характера, как правило, посещались всеми воспитанниками.
В корпус приглашались приезжавшие в город гастролеры – певцы, пианисты. Помню выступления одного из лучших в России хоров под управлением Архангельского, неоднократные концерты хорового ансамбля Агреневой-Славянской. Приглашались и заезжие жонглеры, фокусники и т.д.
Ежегодно в Полтаве организовывались выставки самого различного характера. Кадет всегда водили на их обозрение. Почему-то мне запомнилась выставка домашних животных – племенных коров, лошадей… Возможно, потому, что эта выставка располагалась в непосредственной близости от нашего здания в так называемом Корпусном саду в самом центре города. Кстати, в этот сад вход кадетам не разрешался – начальство считало, что там по вечерам можно встретить неподходящих для нас лиц, увидеть интимные положения влюбленных парочек. Но на выставку нас обязательно водили. Мы довольно равнодушно глядели на ярославских, холмогорских, черкасских и прочих буреночек и быков и подолгу останавливались только у загонов и стойл воронежских битюгов, арденов, першеронов и любовались орловскими рысаками. Сильное впечатление произвел показ специального устройства для искусственного оплодотворения кобыл. В то время этот прибор, во всяком случае, для нас, казался новостью.
Наиболее интересным, будившим нашу фантазию, если можно так выразиться, зрелищем было посещение аэродрома, вернее, огороженного поля, где показывали свое искусство смельчаки – первые авиаторы России. С глубоким волнением следили мы по газетам за полетами известнейших всей стране пионеров авиации – Ефимова, Сергея Уточкина, Кузьминского и других. Это было сказочным, чудесным зрелищем. Ведь авиация только зарождалась не только в России, но во всем мире. И наши русские пилоты шли в первых рядах победителей воздуха. Высота полета 200 метров или вроде этого, один, два круга над полем – и … конец, а так хотелось смотреть и смотреть.
Однажды кто-то из летчиков предложил полет с пассажиром. Если не ошибаюсь, за солидную плату, чуть ли не в 100 рублей. Нашелся желающий из купеческого мира. Взволнованно под тысячами глаз зрителей пошел к самолету, долго не решался сесть, наконец, устроился на сидении и вдруг, когда летчик начал заводить мотор, замахал как безумный от охватившего страха руками и бледный, как смерть, еле вышел из самолета. К сожалению, я не помню фамилию того летчика и тем более струсившего купца, но вся картина ясно запечатлелась в памяти четырнадцатилетнего мальчика. Так полет с пассажиром и не состоялся, а вот как было с деньгами, я не знаю.
Вспоминаю, что часто приходилось слышать об авиаторе Кузьминском: "полет был неудачен, самолет при посадке потерпел аварию; авиатор жив, самолет разбился".
Мне не приходилось, к счастью, быть свидетелем аварии.
В каждой роте была библиотека. Для старших выписывались газеты – столичные и местные, конечно, не только не левого, но и не либерального направления – "Новое время", "Русский инвалид", "Полтавский Вестник" и др. Допускалось и "Русское слово".
По воскресеньям после обязательной для всех церковной службы или в свободные (при болезни преподавателя) уроки проводилось чтение воспитателем вслух. Выбор книги зависел от воспитателя. Для младших кадет демонстрировались туманные картины, изредка ставились детские спектакли.
Все это было полезно, содействовало расширению нашего кругозора, а подчас доставляло большую радость.
Но как мы ждали субботы, чтобы пойти в отпуск домой, с какой грустью, а может быть, и с завистью смотрели на отпускников живущие в корпусе от каникул до каникул – Рождество, Пасха, летние каникулы.
Тоска по дому, отрицательные стороны закрытого учебного заведения, отсутствие ласки и заботы матерей восполняло глубоко развитое чувство товарищества. Всегда и во всем (исключения, конечно, бывали, но именно, исключения) кадеты помогали друг другу, поддерживали в нужных случаях жизни. Я не говорю о такой "поддержке" как решение во время письменных работ задачи одним кадетом за другого, или подсказывание урока, как помощь шпаргалкой. Это было, есть и, вероятно, не скоро исчезнет из быта школы. Я имею в виду настоящую товарищескую помощь в беде. Бывало, получит кто-либо грустное письмо из дому, товарищи деликатно выскажут сочувствие, стараются успокоить. Покупает воспитатель раз в неделю на хранящиеся у него деньги какие-то лакомства – те, кто побогаче, поделятся с неимущими товарищами. Едет малыш на каникулы, всегда после опроса находятся старшие товарищи, берущие его под свое покровительство. Сильный обижает слабого (в младших классах), еще более сильный или смелый оказывает помощь слабенькому. Новичков, вступивших в класс среди года, никогда не обижали. Выучивший урок, если требовалось, объяснял тому, кто его не усвоил. Ябед не выносили. Да их почти и не было, кроме первоклассников.
Невольно вспоминаешь Куприна. Это большой талантливый писатель. Его можно с удовольствием не только читать, но и не раз перечитывать. Но до чего он иногда тенденциозен в своих повестях и рассказах! Вот "Кадеты". Правда, в этой повести он говорит только о событиях в младшем классе. Но это жуткое преувеличение, прямо гротеск. Эти страшные типы, группы, на которые он подразделяет гимназистов военной гимназии. Это вымогательство, глумление, бесчувственность детей. Вся обстановка какая-то дикая, напоминающая бурсу Помяловского. Ну, так то бурса, а не гимназия 80-х годов, да еще в Москве. Так и хочется сказать: "Александр Иванович, зачем же вы так очернили свою школу, неужели чтобы прослыть передовым писателем в эпоху издания Вашей книги?"
Допустим даже, что в повести А.И. Куприна все только сгущено, но приведенные образы и факты верны. Разве и в его время не нашлось ничего положительного, никакого просвета в жизни 2-го Московского корпуса. Многое, конечно, изменилось. Ведь я поступил в корпус через четверть века после времени, описываемого автором "На переломе". Но главное, по-моему, все-таки в том настроении, в том "угле зрения", в той тенденции, с которой Куприн писал свою повесть. Прошло много времени, и тот же Александр Иванович Куприн пишет "Юнкера". Это светлые, лирические воспоминания о той же эпохе. Почти все отрицательное отошло куда-то в сторону; все так цельно, гармонично и все так приятно вспоминать. И люди другие, и порядки не похожи, все пышет здоровой молодостью, "искалечения" детских жизней нет и помину. "Юнкера" – это красивый остров в мутных грязных волнах "Кадет" и "Поединка". "Где истина?" Кстати, о "Поединке". Это Проскуров, захудалый городишко; в стоявший там полк выходили последние по отметкам юнкеры из военных училищ, а большинство пополнялось оканчивавшими бывшие в то время юнкерские окружные училища – в Вильно, Одессе, Чугуеве, Иркутске. В них принимали не закончивших гимназию или реальное – молодых людей, неразвитых, лодырей.
Многому, что есть во мне положительного, я обязан корпусу. Хотя, повторяю, общий строй закрытого учебного заведения, да еще с воинской дисциплиной, не отвечал моим склонностям и характеру.
Характерным для тогдашнего уровня развития и ознакомления с политическими событиями в стране у кадет старших классов может служить отношение к процессу Бейлиса. Этот процесс, за ходом которого следил весь культурный мир, широко освещен в наше время. Но тогда, при ложном, предвзятом освещении правительственными и близкими к ним газетами, кадеты не могли, казалось, не возмущаться действиями Бейлиса, считая его виновным в убийстве Ющинского с ритуальной целью. Ведь в кадетской читальне, как правило, подавались "Новое время", "Русский инвалид", "Киевлянин", "Полтавский Вестник". Только во время войны добавляли "Русское слово", "Полтавский день" – газеты умеренно либерального направления.
И, несмотря на засилье реакционной печати, правда проникала в стены закрытого учебного заведения, готовящего будущую опору существующего строя. Кадеты ходили в отпуск, иногда в культурные, интеллигентные, даже передовые семьи, слушали мнения родных и знакомых, знали о выступлениях Владимира Галактионовича Короленко, слышали его свободный, громко звучащий голос, голос авторитетный не только в Полтаве, но и во всей России.
Надо сказать, что непреклонный националист Шульгин, член государственной Думы и редактор "Киевлянина" выступил в то время со статьей, повлиявшей на поворот общественного мнения в пользу Бейлиса.
И вот в ротах разгорелись споры, и большинство думающих, интересующихся жизнью страны, жизнью общества склонялось против правительственной линии в этом, пахнувшем средневековьем, процессе. Жизнь пробивала толстые, старые стены юношеского оплота монархии.
Конечно, воспитатели стояли в стороне от брожения, охватившего значительные группы кадет.
Бейлис оправдан. По сведениям, дошедшим до нас, он уехал в Америку, приглашенный американскими евреями. Как всегда, при большом событии, неизвестно, как и когда сочиненные, пошли гулять по России глупые стишки на распространенный мотив – ха, ца, ца:
Вера Чеберячка,
Известная босячка,
Ющинского убила,
На Бейлиса свалила,
Но Бейлис на свободе
Кушает маца,
А Вера Чеберячка
Танцует ха ца ца…
И т.д.
В своем кратком изложении жизни в корпусе мне остается рассказать не много.
Уроки гимнастики. Я был очень плохим гимнастом (в отличие от фехтования) и, по правде говоря, не любил ее. Однако смотреть на ловкие, сильные движения хороших гимнастов мне нравилось. Когда наш первый в отделении по гимнастике кадет Болдыжев (тот, что был отравлен впоследствии газами) делал на турнике "солнце" или без всякого напряжения шел на руках по параллельным брусьям, я искренне восторгался, и мне хотелось хоть немного походить на него. Основной причиной моей нелюбви и неумения исполнить гимнастические упражнения была, безусловно, боязнь (чтоб не сказать трусость) удариться, упасть, повредить себе что-нибудь. Я неплохо упражнялся на "козле". Это было не страшно. Но на лошади (у нас называли "кобыла") я ничего не мог сделать мало-мальски сносно – боялся. То же при упражнениях на брусьях и т.д. Кроме того, будучи если не ловким, то, во всяком случае, не тюленем и не медведем (как показывали фехтование и танцы) я не обладал сильными мускулами, а без этого многого не достигнешь в упражнениях на снарядах. Приехал к нам в корпус как-то командующий войсками Киевского военного округа генерал Иванов Николай Иудович – бодрый, с черными волосами и густой, тоже черной, бородой, нестарый еще человек. Пожелал посмотреть, как кадеты делают гимнастику. Урок гимнастики был как раз в нашем отделении. Подполковник Пржедзецкий хотел блеснуть, показав ему наших лучших гимнастов. Однако Иванов, заметив это, категорически запротестовал. – "Прошу, подполковник, без выбора, покажите всех. Военному человеку, а будущему офицеру тем более нужно быть не рекордсменом, но хорошим гимнастом, на войне это пригодится, это обязательная закалка не только для тела, но и для души". In corpore sano mens sana – вот что выразил русскими словами будущий главнокомандующий Юго-Западным фронтом в первой мировой войне.
Я все-таки словчил, и те упражнения, которые не удавались мне, ухитрился не проделать перед требовательным генералом. Кстати, об Иванове. Он не показал блестящих способностей военачальника в мировой войне и перед наступлением русской армии в 1916 году был заменен генералом от кавалерии Алексеем Алексеевичем Брусиловым, совершившим блестящее наступление и разгром армий австрийцев. Иванов же был назначен Николаем ІІ в дни начала февральской революции на защиту Алекс. Федоровны в Царском Селе, но и этой задачи не выполнил.
В целом, наши лучшие гимнасты нередко выходили на одно из первых мест на общероссийских состязаниях в Петербурге.
Несколько слов о гимнастике ума. В старших классах был у нас своего рода кружок по изучению философии. О марксизме мы, по крайней мере, я, ничего не знали. Наш неофициальный кружок из нескольких человек с увлечением читал и обсуждал некоторые философские сочинения. Наиболее начитанным и разбирающимся в философских системах был кадет нашего отделения Гейман*, серьезный, нелюдимый и какой-то независимый юноша. Мы читали Канта, Гегеля, Огюста, Конта, Шопенгауэра и Ницше. Никакой системы в наших чтениях, конечно, не было. Но, думаю, что даже небольшое и неглубокое знакомство с вопросами философии было для нас небесполезно.
![]()
* Гейман Евгений - в 1913 г. переведен в 7-й класс, но сведений об окончании корпуса нет.
В последний год пребывания в корпусе я твердо решил не идти на военную службу. Мой приятель Петров (из второго отделения), Гейман, лучший друг в младших классах Неелов и несколько других кадет также наметили уход "на сторону". Мама (отца уже не было в живых) и старшие братья благосклонно отнеслись к моему решению, и братья обещали помочь мне материально в студенческие годы.
Намеченная мною перспектива не требовала стремиться к первенству в классе; мало того, я все свободнее вел себя и обращался к начальству. В первые годы я, попеременно со своим соперником Маковецким (в седьмом классе он был вице-фельдфебелем) занимал в отделении то 1-ое, то 2-ое место по учению. Затем Маковецкий занял прочно место первого ученика, а я, уступив ему, все же ниже 3-го ученика не опускался. По поведению я уже давно не стал образцовым. В первый же день после каникул, явившись в корпус кадетами 7-го класса, мы были распределены по взводам и отделениям. Тут же ротный командир полковник Купчинский назначил командиров. Хотя я был третий по успехам, как тогда выражались, но меня назначили только командиром отделения. Было немного обидно. Меня обошли, взвода мне не дали. Это еще больше освобождало меня от необходимости тянуться. Однажды мне даже сбавили балл за поведение, впрочем, за какой-то совершенный поступок. И не только 6-го декабря, но и до конца пребывания в корпусе я унтер-офицерского шитья на погонах так и не получил. Жаль только, что это расстраивало маму. Володя и Коля закончили корпус унтер-офицерами.
В феврале месяце 1914 года в один из свободных уроков в класс вошел Купчинский в сопровождении нашего воспитателя Пржедзецкого. Это был серьезнейший момент в жизни выпускного класса. Каждый, по алфавиту, должен был заявить, куда он намерен поступить, окончив корпус. Конечно, дело было не только в желании, но и в возможности. В артиллерийские училища, а тем более в инженерное, вакансий бывало мало, и попадали туда только лучшие по отметкам кадеты. В кавалерийские – не требовалось иметь высшие отметки, но надо было иметь денежные средства – на одно офицерское жалованье в кавалерии служить было нельзя. Существовало правило: кадет называл училище, наиболее желательное, затем другое, на случай, если поступить в первое не представится возможности, и обязательно каждый должен был назвать какое-либо пехотное училище, так сказать, на худой конец.
Я был последним по алфавиту. Когда пришла моя очередь, Купчинский был сильно не в духе. Из 26-ти кадет нашего отделения четверо заявили: "на попечение родителей". Это значило, что они не хотят быть военными. Во втором отделении, где опрос был раньше нашего, трое кадет отказались идти в военные училища. Для начальства такой высокий процент, естественно, был неприятен. – "А Вы, Шапаровский, тоже на попечение родителей", – с чуть скрываемой горькой иронией спросил ротный командир. – "Так точно, господин полковник, на попечение родителей", – нарочито громко и отчетливо произнес я. Итого восемь из 52 кадет решили быть штатскими. С марта месяца я начал заказывать у хорошего портного костюм, покупать рубашки, ботинки и т.д. Белье мы, будущие штатские, полуофициально покупали в корпусном цейхгаузе. Такого белья нигде купить за эти деньги было нельзя.
Подошло время выпускных экзаменов. Было легко и свободно, не надо тянуться, стремиться получить высокие баллы. И странно, без особого напряжения, без бессонных ночей я закончил корпус 3-им учеником. Впоследствии мне пришлось пожалеть, что я не имел более высоких отметок, но огорчение было непродолжительным.
И вот последний экзамен. Товарищи готовятся к выступлению на следующий день в лагеря. Я и другие "штатские" по прочтении полученных на экзамене баллов, выслушав краткое поздравление нашего Илиодора Станиславовича, торопился в спальню. Здесь заранее приготовлено все, чтобы, сняв кадетскую форму, облачиться в штатский костюм. Быстро переодеваюсь и, закурив папиросу, конечно, больше из мальчишества, прихожу в дежурку и, по традиции, прошу дежурного воспитателя разрешения покинуть корпус. Он подает руку, что-то говорит, улыбаясь. Здесь же Купчинский и воспитатели всех 4-х отделений 1-ой роты. Момент торжественный и … грустный. Детские годы и раннее юношество, связаны с этими людьми, которые кажутся лучше, чем были на самом деле, связаны с этими стенами, ставшими родными.
Когда, после Великой Отечественной войны, я услыхал от приехавших из Полтавы, что наш корпус разрушен, я был сильно огорчен. Бывав в 1957 году в Полтаве, я убедился в полном восстановлении здания снаружи (шли окрасочные работы и внутренняя отделка). Изменен только цвет, иначе сделан вход, не было пушек времен Полтавского боя.
Завтра приду за аттестатом, попрощаюсь с товарищами. Выходим на улицу группой. Встречаем офицера. Кто-то из нас поднял руку к шляпе. Нелегко отвыкнуть от привитого с детства. Прихожу домой. Мама, Наташа, Сережа, Юра и Верочка смотрят, смеются, поздравляют. Мне как-то не верится, что я кончил корпус, что я уже не кадет, не ученик – вольный казак. Кажется, переоделся на время, а потом все пойдет по-прежнему. Чтобы скорей привыкнуть к новому положению, иду в город. На улице стараюсь держать себя солидно, а ведь мне только 17 лет, хотя по виду все дают больше.
На следующий день получаю аттестат и остаюсь с товарищами до выхода роты в лагеря. У входа в корпус на лестнице выстроился оркестр, играют марш нашего выпуска. Явно не достает валторны. Выбыл я и другой валторнист Сокольский. Рота в походной форме – брюки в сапоги, через плечо скатки шинелей, сходит с лестницы и вытягивается на мостовой. Оркестр становится во главе колонны. "Шагом марш!" Снимаем панамы, тирольки и посылаем последний привет уходящим друзьям и товарищам.
Большинство из них мы видели действительно в последний раз.
Прощай, корпус, прощайте, кадеты! Начинается новый период жизни.
* * *
|
|
Я не имел ясности в своих желаниях. Хотелось поступить в Харьковский Технологический институт, но не в меньшей мере мечтал я об адвокатуре. В конце концов, я потерял год. Старший брат Андрюша, окончив московский университет, служил в тот год в Полтаве. Еще в корпусе я под его руководством стал заниматься латынью. Без этого в университет не принимали. Надо было к следующей весне сдать экзамен по латинскому языку за весь курс гимназии. Это было сложно, но, изучив этот предмет в объеме 6 классов, я полностью переключился на повторение математики. Случайно, брат жены дяди Володи – маминого родного брата, узнал обо мне и написал маме, что если я закончу Институт Инженеров путей Сообщения, он окажет мне содействие в дальнейшей карьере. Енгалычев (князь), свойственник мамы, был членом правления какой-то, кажется, Московско-Казанской железной дороги, имел "вес" и мог действительно быть полезным.
Это все переменило. Латынь заброшена, из пыли извлечены Киселев, Краевич. Надо готовиться к конкурсу в Петербурге. Зная, что конкурсный экзамен – это очень серьезное дело, да еще в Путейском Институте, я договорился с известным в городе преподавателем Абрамовым об уроках 2 раза в неделю. В корпусе еще достали мы, штатские, книгу инженера Шмулевича о высших учебных заведениях России, об особенностях конкурсных экзаменов в каждом из них и т.д. Абрамов хорошо изучил не только эту книгу, но и сборники задач, в течение 10 лет предлагавшихся на этих экзаменах.
Большие деньги, говорят, заработал Шмулевич на этих книгах и сборниках. Были у него и специальные курсы на даче под Петербургом, курсы с квартирой и полным пансионом.
Я очень благодарен Абрамову, он денег даром не брал, стремился весь свой опыт и знания передать ученику, и все в такой легкой форме. Называл он меня "Саша". – "Саша", – бывало, говорит Абрамов, – не заставляйте меня получать даром Ваши деньги, Вы уже все знаете, я в Вас, как в себя, уверен". Но я ходил, чувствуя, что занятия с ним для меня очень полезны.
Параллельно, но только почти ежедневно, я сам репетировал одного ленивого и не очень способного кадета 4-го класса Джунковского*. Мне хорошо оплачивали урок и за вычетом платы Абрамову, оставались деньги, которые я отдавал маме.
![]()
* Вероятно речь идет о Николае Джунковском, который в 1914 г. учился в 4-м классе. Сведений о его выпуске из корпуса нет.
Вспоминаю, как курьез. Мать моего балбеса, женщина лет 40, была вдовой, она очень неплохо выглядела, даже была интересной. У нее был друг и поклонник – наш корпусный служащий – полковник Ходолей. Звали полковника Лев Африканыч*. "Вы ему не знания старайтесь вдолбить, а научите, как хорошие отметки получать", – говорил полковник. Редко, но метко.
![]()
* Ходолей Григорий Африканович, подполковник.
То, о чем я сейчас пишу, происходило не в обычное время. Это был 1914–1915 год – первый год мировой войны. У величайшего гения художественной литературы Льва Николаевича Толстого в "Войне и мире" есть в общих чертах такое высказывание: шла Отечественная война 1812 года, крупнейшее историческое событие, а жизни людей, их мысли, интересы шли своим чередом, как будто вокруг ничего необычного не было. Это очень глубокая истина, но не абсолютная, как и все на свете. Во времена первой мировой войны люди продолжали работать, учиться, поступать в ВУЗы, женились, просто любили, искали развлечений, смеялись, ссорились и т.д. Но, или война была не та, а гораздо более непосредственно захватившая жителей России, чем в 1812 году, или во много раз усилившиеся и развившиеся средства связи – телеграф, почта, радио, железные дороги – вовлекали глубже население в круг мировых событий, даже непосредственно их не задевавших, – забыть о войне, не чувствовать ее повседневно было почти невозможно.
Много ли было семей, не отдавших армии отца, мужа, сына, братьев или других близких людей. А сколько беженцев, покинув родные места и жилища, вливались в обжитые семьи живым напоминанием о войне, стоявшим перед глазами жителей отдаленных от фронта областей.
Наша семья ни на минуту не забывала о войне, о происходящих событиях. Каждый день мог принести тяжелые вести. Мы ждали писем и боялись их. Разворачивая "Русский Инвалид", мы могли увидеть свою фамилию, но по какому поводу! "Инвалид" сообщал о полученных наградах и там же длинные столбцы давали перечень убитых, пропавших без вести, тяжело раненых. Трое братьев одновременно находились на фронте.
Семья наша была уже неполной. Мы лишились отца. Многое изменилось. Но прежде, чем продолжать мои воспоминания в хронологическом порядке, вернусь к детским годам, ко времени, проведенному в домашней обстановке в годы учения в корпусе.

Семья Шапаровских. 1910-е годы.
Когда я поступил в 1-ый класс, т.е. в 1907 году, семья наша была в полном составе, все были живы и здоровы. Отец был на пенсии в чине генерал-майора. Мать, в свои 45 лет, была полна энергии и жизни. У родителей была одна забота – правильно воспитать нас в умственном и нравственном отношении, сделать из нас честных, порядочных людей. К этому сводилась вся их деятельность. С детства мы приучались к труду. В бытность мою в корпусе у нас редко бывала прислуга. Мы помогали родителям по хозяйству – ходили до занятий на базар или в лавочку (так называли в Полтаве мелкие бакалейно-гастрономические, да и другие магазины), мыли полы, кололи дрова, убирали посуду и т.д. Печи большей частью топил отец, их было обыкновенно несколько в квартире, и занятие это требовало много времени. Обед готовила мать, она же стирала белье, иногда приглашали поденщицу. К счастью, шить, стирать и штопать приходилось не так много, кадеты имели все казенное и хорошего качества.
Меньше всего помогал дома я. Меня так и прозвали – "барчук". Конечно, кроме вреда, это ничего не принесло мне в жизни. Кроме занятий по хозяйству, которые не так-то уж много отнимали времени, мы играли на пианино, готовили уроки, читали, играли в различные игры. Любимой игрой были "вырезанки". Мама из различной бумаги вырезала нам фигурки человечков, лошадей, мы раскрашивали их и устраивали войну – стреляли из пушечек, резали ножницами, кололи вилками и на место выбывших из строя требовали у мамы все новые и новые пополнения. Были и оловянные солдатики, но это дорого стоило, и их надо было беречь от ужасов войны. А это не так интересно. Бой – так бой. Как-то один знакомый подросток предложил нам выстроить колонну оловянных солдатиков и неожиданно для нас выстрелил по ним из настоящего пистолета "Монте Кристо". Погибла гвардейская кавалерия и отборная пехота. Мы чуть не плакали. Больше мы не приглашали жестокого вояку.
Вообще, к нам нечасто приходили приятели. Нам было весело и без посторонних. Изредка, когда я был в младших классах, появлялся Колин товарищ Умыруко-Запольский. Мы его не очень любили, не потому, что семья его была очень зажиточна, а мы бедны, но из-за его "бабости". Он был какой-то рыхлый, не толстый, а жирный, в нем не было ничего мужественного, военного. Кстати, отец его когда-то служил с нашим отцом в одном полку, и в это время жил недалеко от нас в одном из трех собственных домов. Узнав, что оба живут в Полтаве, старые сослуживцы обменялись визитами, но дальнейшее знакомство не состоялось. Отец, находясь в неизмеримо худших материальных условиях, не считал возможным поддерживать отношения с богатым бывшим товарищем по полку. "Не имея возможность принять у себя, я не могу бывать в гостях у других", – говорил отец. Это относилось не только к Запольскому. У дочери тети Наташи, папиной двоюродной сестры, муж, А.А. Горонескуль, был самым богатым адвокатом города. У них была великолепная квартира, были гувернантки, первый в Полтаве автомобиль, большая дача в живописном месте близ города и т.д. Вынужденный обстоятельствами семейного порядка, отец несколько раз за много лет бывал в доме Горонескуля, приглашая эту семью к себе в гости, терпя после приема длительное время материальные лишения.
Правило отца мы усвоили на всю жизнь. К детям это, конечно, не относилось. Мы, Коля и я, бывали у Запольских, Ника Запольский являлся к нам. Мы бывали на елке у Горонескулей и в других домах, куда нас приглашали, как воспитанных подростков, вносящих оживление в детское общество. Но это было все же редко.
Я упоминал уже, что у нас в доме, т.е. у родителей редко кто бывал из знакомых. Родственники не в счет, но принимать посторонних, устраивать вечера, приемы мы не могли. Этого не позволяла обстановка, отсутствие средств. Мне кажется, что и родители не чувствовали особых лишений, не имея широкого круга знакомств. Чтение, музыка, воспитание многочисленных детей и другие жизненные заботы всецело наполняли их жизнь. Однако, при появлении в Полтаве, а, следовательно, и у нас кого-либо из старых сослуживцев отца или друзей молодости родители проявляли искреннюю радость и радушие.
Помню приезд на один день в Полтаву сослуживца отца по полку князя Вахвахова, занимавшего в то время видное положение в высоком чине. Он держал себя так просто, развлекал нас, детей, произвел впечатление близкого родственника. Князь Енгалычев, кавалерист гвардеец, свойственник матери по жене брата, оставивший воспоминание своими рассказами, полными живости и добродушия, генерал Кастеляз, тоже старый друг отца по лейб-гвардии Волынскому полку остался в памяти как ласковый и простой человек. Все они по общественному положению были неизмеримо выше наших родителей, но, находясь проездом в Полтаве, считали нужным навестить старых друзей или просто сослуживцев, не кичась своим положением, как равные к равным. Это черта подлинно порядочных людей, воспитанных в старых традициях. Это одно из положительных качеств ушедшего навсегда из жизни слоя служилой дворянской интеллигенции.
Удивительно дружно жили мы в семье, несмотря на различные возраста. Как-то приехала из Екатеринослава наша двоюродная сестра Раиса. Ее сын Вова Ершов был ровесником Коли. Уезжая, она просила отца отправить меня и Колю погостить на месяц на дачу под Екатеринославом. Как я обрадовался! Увы! Накануне отъезда у меня обнаружилась ангина (я вечно в детстве болел ангиной), и вместо меня с Колей поехал Сережа. Из младших детей остались дома, кроме меня, Юра и Верочка. Мне было 13 лет, Юре 9, а Верочке 7. Назвав нашу компанию "веселая четвертодюжинка", мы не расставались весь месяц друг с другом; гуляли в лесу, строили шалаши, объедались дикими грушами, словом, веселились напропалую, не зная, что значит скука. Это лето до сих пор мы с Верочкой (ей сейчас 56 лет) вспоминаем с особым удовольствием.
Я был очень влюбчив с ранних лет. То мои мысли были целиком поглощены хорошенькой девочкой, игравшей в серсо в городском саду, и я готов был часами любоваться ее легкими, изящными движениями, то я "не на шутку" влюбился в двоюродную сестру Таню, потом роман, даже с поцелуями за кустами, с Верой Погореловой. В 14 лет во время летних каникул я до забвения пленился приехавшей к нам двоюродной племянницей Катей Абрамович. Это была чистая платоническая любовь. Смотреть на свой кумир, слушать милый голос – больше мне ничего не надо было. "Катя, скажи "Шурочка", – просил я, и, когда она, чуть-чуть картавя и улыбаясь, исполняла мою просьбу, я был наверху блаженства.
Но, при исчезновении предмета моей влюбленности, образ его довольно быстро переставал волновать меня, чувство остывало. Оставалась, и, пожалуй, навсегда, дымка приятных воспоминаний, благодарность за пережитые светлые минуты.
И вот мне 15 лет. Я перешел в 6-ой класс, в 1-ую роту. Задолго до окончания экзаменов было решено, что я поеду в Екатеринослав по приглашению родных. С нетерпением ждал я дня, когда вместе со своим другом одноклассником Лабинским, жителем Екатеринослава, сяду в поезд и помчусь к месту своего рождения. Не думал я тогда, что с этим городом будет так много связано событий моей жизни.
Первый раз в сознательном возрасте ехал я по железной дороге. На станции "Лозовая" в 2 часа ночи мы с Лабинским, ожидая московского поезда, зашли в буфет, заказали чай и полбутылки "бордо". Я чувствовал себя героем. Утром мы были уже в Екатеринославе. Явившись в, так называемый, большой дом, где жили две двоюродных сестры, вскоре после родственных поцелуев и расспросов, я с кем-то из многочисленных родственников отправился на дачу. Там в доме, где 15 лет тому назад я впервые увидел свет божий, жила семья двоюродного брата Анатолия Александровича Абрамовича. Мне говорили, что у него большая семья, но знал я о ней очень мало. Летом там же жили и другие родственники, сестра Раиса с мужем, капитаном Ершовым, их сын Вова. С волнением вышел я из экипажа и направился к воротам дачной усадьбы. И тут … Я не знаю, как описать, что было тут. Словом, я мгновенно влюбился. У ворот стояла взрослая девушка. Мне показалось, что такого сочетания красоты лица, стройности фигуры, какого-то обаяния, я не только никогда не видел, но и не представлял себе даже в мечтах. Она действительно была недурна собой. Темно-каштановые, слегка вьющиеся волосы, большие серые с большими ресницами глаза, нежный румянец на лице правильного овала и веселая, оживленная улыбка, прелестная улыбка. Улыбка относилась ко мне. Меня ждали и вышли навстречу. Леля, старшая дочь двоюродного брата Анатолия Абрамовича, подошла ко мне. Мы поздоровались. Она повела меня на террасу и представила родителям.
Больше месяца прогостил я у родственников. Общество было большое, время проводили разнообразно, интересно. То ездили кататься верхом, то варили полевую кашу, катались на лодках по Днепру. Вечерами часто бывали в городе. В пасмурную погоду, сидя на даче, рассказывали друг другу всякие небылицы, страшные истории. Однажды в городе я испытал чувство стыда такой силы, что долго не мог забыть.
Идя по бульвару Екатерининского проспекта, так называлась тогда главная улица города, с Лабинским, я был вежливо остановлен интеллигентного вида, хорошо одетым старичком. "Разрешите спросить, молодой человек, за что вы получили в таком возрасте медаль?". Не задумываясь ни секунды, я гордо сказал: "За спасение утопающего". – "А почему тут изображен Петр Великий?" – "А потому", – ответил я, не моргнув глазом, – "что Петр І погиб, простудившись при спасении утопавших солдат". – "Гм, – протянул, внимательно разглядывая медаль, надоедливый старикашка, – "У меня сын офицер, и он имеет такую же медаль, но никого никогда не спасал". Потом посмотрел внимательно мне в глаза и, сказав: "Стыдно, молодой человек, обманывать старших", быстро засеменил по бульвару. Я готов был провалиться сквозь землю. Лабинский (он поступил в корпус в 1910 году и медали не имел) меня успокаивал. Этот случай излечил меня от бесполезной лжи и похвальбы.
Второй случай, заставивший меня больше следить за своими словами, а не болтать, не думая, произошел также в Екатеринославе. Однажды все сидели за обеденным столом на террасе. Кроме своих, за обедом был полковник Карамышев, недавно переведенный из гвардии на должность старшего помощника командира полка, где служил Федор Алексеевич. Молодой, красивый полковник был в центре внимания хозяев. Изредка, отвечая на вопросы, я принимал участие в разговоре. И вот, говоря что-то о кузине Раисе, хозяйке обеда, я вместо того, чтобы сказать – Раиса Александровна, ляпнул "она". Полковник строго посмотрел на меня и, естественно, не считая меня взрослым, сделал правильное замечание. Боже мой! Посторонний, в присутствии многочисленных родственников сделал мне, хотя и совершенно правильное, замечание. К тому же я прекрасно знал, что так нельзя было выражаться! В довершение всего тут находилась Леля. Леля! Все мои поступки, все произносимые вслух слова, все, что бы я ни делал, я мысленно проверял, с ее точки зрения. Я был влюблен, к тому же глупо, безнадежно. Окончившая в этом году гимназию, взрослая девушка, окруженная поклонниками-офицерами и инженерами, даже догадываться не могла о моей любви к ней. Она была мила в обращении со мной, как с гостившим у них родственником, мальчиком недурной наружности. А я, коснувшись случайно ее руки, считал себя счастливым и делал все возможное, чтобы находиться как можно больше в ее присутствии. Точно тучи находили на небо, когда она уезжала в город или проводила время со своими кавалерами.
Любовь моя не была платонической. Мне доставляло радость, не наслаждение, а именно радость прикосновение к ее руке. Взгляд ее серых с темными ресницами глаз заставлял меня волноваться. Порой мне хотелось поцеловать ее губы, глаза, пышные, отливающие темной бронзой, волосы. Это была вполне земная влюбленность, но чистая, светлая. Мысли об обладании ею, вызываемые этими мыслями ощущения, были чужды мне. Радостно было смотреть на нее, слышать ее голос.
Сильно заболела тетя Катя, старшая из оставшихся в живых папиных сестер, моя крестная мать. Получив об этом сообщение, отец приехал в Екатеринослав. Тетя Катя поправилась, и папа уезжал домой. Я просил разрешения еще побыть у родных. Вероятно, убедительно звучала моя просьба. Я остался еще на неделю. Прошла и эта неделя, и в июле я возвратился в Полтаву. Грустно и тоскливо потекли дни каникул. Я никогда не скучал до этого, да и после на протяжении всей своей жизни почти не встречался с тягостным, мертвящим ощущением скуки. А в то короткое, правда, время я ничем не мог себя развлечь, ничто меня не радовало и не огорчало. Пустота. Однажды в послеобеденное время шел сильный дождь, все небо заволокло тучами. Я смотрел в окно на, так называемый, задний двор – сарай, забор, какие-то бочки, разбитая ручная тележка, и дождь, дождь без конца. Казалось, вокруг ничего нет и быть не может. Все радостное, светлое было мимолетным сном. Я физически ощутил состояние тоски и одиночества. Стало страшно. И вот, по дорожке перед окнами нашего дома с криком пробежали двое ребятишек – мальчик лет семи и девочка, еще младше его. Они с наслаждением бежали, припрыгивая по глубоким лужам, радуясь ливню и брызгам, не думая о вселенной тоске. За детишками шлепала по воде мать, стараясь вернуть их домой. На лице матери отражалась боязнь за детей и в то же время невольная улыбка мелькала на губах. Непосредственная радость жизни, забота любящей матери встряхнули меня, вызвали во мне ощущение полноты бытия, широко раздвинули границы существования. Это был перелом. Я почувствовал, что вокруг меня живет много людей, что у меня есть бесконечно любящая мать, отец, братья и сестры. Ощущение одиночества, тупика жизни исчезло. Появилось чувство преемственности прошлого с настоящим и будущим. Возникли мечты и желания. Я ожил. Вместе с ушедшей тоской потускнел и образ Лели. Как дань ушедшим (надолго ли?) настроениям, я даже пытался сочинять стихи, глупые, мальчишеские стихи. Некоторые строки запомнились мне навсегда.
Меня туда лишь только тянет,
Где жизни я начало получил,
Ничто меня другое не заманит,
Хоть будь то сказано из уст самих светил.
Что там оставил я?
Любовь, веселье, радость.
Впервые там я увидал тебя
И жизни там познал я сладость.
и т.д.
Или:
Мерцали ли звезды в ночной тишине
И с неба светила луна,
Иль солнце блестело с небес в вышине, –
В глазах у меня все стояла она.
А то:
Густые туманы, ливневые дожди
Тяжело отражаются на моем настроении.
Ты, любимая, меня не жди
Ни к Рождеству, ни к светлому Воскресению.
А когда расцветет природа опять
И возьмет все в плен жаркое лето,
Чтобы хоть в мыслях тебя обнять,
Я примчусь к тебе уже не кадетом.
и т.д.
Остаток каникул я провел весело, в кругу семьи. Явившись 15-го августа в корпус и став кадетом І-ой строевой роты, я перестал ходить после уроков домой и так же, как большинство других товарищей, ожидал отпуска в субботу. Занятия стали серьезней; размеренная корпусная жизнь оставляла мало времени для воспоминаний о проведенном лете и неразделенной любви. Сердце мое стало свободным от лирических переживаний.
В ноябре месяце, во время послеобеденной прогулки парами по тротуарам, нам повстречался одноклассник Максимович, продолжавший оставаться, как исключение, приходящим. Поравнявшись со мной, Максимович с подобающим случаю грустным лицом в двух словах сообщил о серьезной болезни отца. Как это стало ему известно, не помню. Мы с Колей (он был в той же роте в последнем 7-ом классе) очень взволновались. Придя в очередную субботу в отпуск, мы застали отца в постели с высокой температурой. Наш постоянный врач определил болезнь печени и проглядел воспаление легких. В то время это была серьезная и часто опасная для жизни болезнь, особенно незахваченная вовремя. Отцу было все хуже, врачи даже не пытались нас обманывать. 13-го декабря 1912 года отец в полном сознании, окруженный женой и детьми, умер. За два часа до смерти отца я возвращался домой из аптеки с каким-то лекарством. Было уже темно. Подойдя к воротам дома, я увидел трех девочек-подростков со свечами в руках. Они наклонили головы, опустили свечи и дали мне дорогу. Я вскрикнул, закрыл глаза и несколько секунд простоял в оцепенении. Когда я пришел в себя и бросился к калитке, никого не было, во дворе глухо лаяла собака. Бред воспаленного тяжелыми переживаниями воображения, причудливые очертания зимнего тумана во время оттепели, девушка соседка, вышедшая из нашего двора в декабрьскую мглу и мигом скользнувшая в соседний дом – не знаю, но я был потрясен.
Прибежав, не глядя по сторонам, домой (дом стоял довольно далеко от ворот в глубине двора) и отдав лекарство маме, я рассказал Коле о случившемся, и мы в сильном волнении пошли в комнату, где лежал больной отец. Он широко раскрытыми глазами смотрел на всех нас, не говоря ни слова. Все чувствовали приближение смерти. За несколько минут до конца он пристально посмотрел в сторону, где висел портрет матери, нашей бабушки, и внятно произнес одно слово – "мама". Мы еле сдерживали рыдания. Долго стояли молча и мы, дети, у кровати, не отдавая себе отчета в свершившемся перед нами таинстве смерти.
Приехали из Москвы и Петербурга вызванные телеграммой Андрюша – студент юридического факультета, и Володя – юнкер Михайловского артиллерийского училища. От родственников из Екатеринослава приехал двоюродный брат, уже пожилой человек, Сергей Александрович Абрамович. Тетя Липа и тетя Лиза были уже в Полтаве за день до смерти отца. Гроб с телом отца был поставлен в гостиной; горели свечи, непрерывно читался псалтырь. Я не мог оставаться один в гостиной и преклонялся перед Колей, читавшим над гробом почти полную ночь.
Хоронить отца решили в Екатеринославе, на севастопольском кладбище, рядом с могилой, вернее, склепом, его родителей. На 3-ий день к воротам подали "катафалк" – лафет артиллерийского орудия, подошел военный оркестр, отряд пехоты и артиллерии. Так полагалось в старое время при похоронах военного в чине генерала.

Митрофан Андреевич Шапаровский (стоит второй слева) в кругу
семьи. 1870-е годы.
Все хлопоты по похоронам взял на себя Володя. Шел мелкий, как бы осенний дождь, таял снег, медленно, под звуки Бетховена и Шопена двигалась к вокзалу процессия. При спуске на Подол старшие братья усадили меня (у меня 2-ой день была ангина) на извозчика, все остальные длительный путь последнего прощания прошли пешком под траурные звуки марша.
Мама, Володя, двоюродный брат и обе тети поехали в Екатеринослав. К пассажирскому поезду был прицеплен вагон с установленным цинковым гробом, в котором покоилось тело отца.
Среди провожавших были и посторонние люди. Не могу забыть, как пожилая еврейка, соседка по двору, горько плакала и что-то про себя причитала. Может быть, молилась? Как-то, подходя к дому, отец увидел эту соседку, несшую тяжелую вязанку дров на спине. Под тяжестью ноши та кряхтела. Ни слова не говоря, отец взял вязанку и донес до ее квартиры. Далеко не молодой русский, да еще генерал, помог бедной еврейке. Она горячо благодарила и забыть этого не могла. Мы случайно узнали об этом поступке отца. А разве это один случай, так ярко характеризующий доброе сердце и истинную человечность нашего отца, горячо любимого всеми, кто его знал!
Возвратились мама и Володя из Екатеринослава. Отца похоронили, где было намечено. Грустно и необычно стало в нашей квартире. Пусто кресло перед папиным письменным столом; лежат неразрезанные журналы; не вьется дымок от папиросы. Мама в трауре. Все как-то не решаются говорить громко. Надолго захлопнута крышка пианино. Но молодость берет свое. "Мертвый в гробе, мирно спи, жизнью пользуйся, живущий". Володя рассказывал, какое впечатление произвела на него "моя Леля", подумывал о выходе из училища в артиллерийскую бригаду, стоящую в Екатеринославе. На Рождество мы, Коля, я и Сережа, по приглашению от Горонескуль, отправились на елку, и, хоть не танцевали, но все-таки в гостях были. Были мы и на елке 3-го января в корпусе. Мама считала, что не во внешнем проявлении горя дело, а в том, чтобы память отца, его благородный образ и заветы, данные нам, были путеводной нитью на нашем жизненном пути. Сама мама еще больше работала по хозяйству, а в свободное время читала книги, почти исключительно религиозного содержания, писала письма, главным образом, сыновьям и папиным родным. Все чаще и чаще ходила мама в церковь.
Я не религиозен, даже больше – я атеист с ранних юношеских лет. Уже в пятом классе, т.е. в 15 лет, мы, трое друзей – Маковецкий, Глоба-Михайленко и я, связанные не любовью к спорту, шалостям, обжорству, не совместным ухаживанием или разговорами об этом, а запросами культурного порядка, часто делились своими мыслями и мечтами. Во время так называемого "говения" Великим Постом мы беседовали на религиозные темы и пришли к сознанию (оно, конечно, зрело у нас давно), что все эти обряды – исповедь, причастие и т.д. очень красивы, оказывают на человека сильное впечатление, но все это внешнее, а по существу бессодержательное, ибо Бога нет, и, следовательно, является обманом. Когда мы высказали себе и друг другу эти, до того времени неоформленные мысли, нам стало страшно. Вокруг и, главное, внутри нас образовалась какая-то пустота. Ее надо было заполнить, а чем – мы не знали. Решили, что просто надо жить, и сама жизнь подскажет нам смысл и значение нашего существования. Но долго еще этот нравственный перелом, эта неопределенность, отсутствие моральной опоры в действиях и поступках вызывали тяжелые переживания, оказывали вредное влияние на юношескую психику. – "Почему нельзя это делать?" – "А не все ли равно, мне ничего за это не будет" – эти и подобные мысли и вопросы вставали передо мной и ответа на них не было. Только вложенные воспитанием в корпусе и, особенно в родной семье принципы и правила поведения были для меня порой бессознательными, как бы врожденными, и опорой, и рулем в переломный момент жизни.
В 6-ом классе группа кадет образовала что-то вроде философского кружка. Мы читали, правда, без всякого руководства и системы, книги философского содержания, которые кому-либо удавалось достать. Чуть-чуть Канта, немного Гегеля, побольше Спенсера, Шопенгауэра, Ницше. Конечно, ничего для становления определенного мировоззрения эти "занятия" философией не дали, не дали они ответа и на волнующие нас вопросы. Но польза все же была. Мы получили, хоть и туманное, представление о предмете философии, мы будили свою мысль, привыкали к серьезному чтению, наконец, узнавали, если не усваивали, некоторые философские термины. В конечном счете, мы в той или иной степени расширяли свой кругозор.
А теперь я вернусь к вопросам религии. И в те годы, и сейчас, когда я пишу эти строки, мне было совершенно ясно, что человек, религиозный не на словах, не внешне, не лицемер, а искренно верующий, как правило, честнее, порядочнее и, что особенно важно, счастливее атеиста. У верующего есть твердая линия поведения (это не значит, что он не делает вовсе скверных поступков, но он их стремится избежать, а при совершении их от души раскаивается), у него имеется моральная опора, он смотрит на жизнь со всеми ее горестями и тяжестью, как на что-то временное, преходящее, надеясь в будущей жизни найти успокоение и счастье. Мало того, теряя любимого человека, он, хоть и тяжело переносит горе (такова уж природа), верит в соединение с ним в загробном мире. Он верит в силу молитвы и, следовательно, в возможность сделать счастливыми в будущем мире не только себя, но и своих близких, хотя и грешивших немало на нашей бренной земле.
Горе моей матери после смерти отца было велико. Но ее твердая вера и горячая молитва давали ей душевные силы и позволили с беспрестанной мыслью о покойном муже и любимых детях прожить до глубокой старости. Она умерла 80 лет. Но об этом после.
После смерти папы мы оставили 6-ти комнатную квартиру на Колонийской улице и переехали в квартиру из 4-х комнат в том же районе на улице, носившей название Фабрикантской. Называлась она так, очевидно, потому, что на ней где-то во дворе находилась колбасная мастерская некоего чеха, владельца двух колбасных магазинов в центре города по фамилии Шалек. Улица была тихая, окрайная, выходила одной стороной в поле, вернее, в территорию кирпичного завода. Однако дома по улице были не только окрайного типа, но, пожалуй, одни из лучших жилых домов в городе. В начале улицы возвышалось довольно большое здание учительского Института, примыкавшего к усадьбе расположенного на параллельной Колонийской улице духовной семинарии. Наша квартира была в очень приличном доме во дворе. Двор был зеленый, с палисадниками; во дворе был еще флигель поскромнее, тоже 2-х квартирный, как и наш. Большой дом, где в половине жил владелец домов некто Чубко, претендовавший на "человека из общества", выходил на улицу. Поселившись на новой квартире, мы, в целях экономии предназначали одну комнату для сдачи внаем, а сами располагались в остальных трех.
К этому времени положение у нас в семье было таким. Старший брат Андрей был на последнем курсе Московского Университета. Остановлюсь немного на трагической жизни этого несчастного человека. Он кончил в 1908 году полтавский кадетский корпус и был юнкером Павловского военного училища в Петербурге. Зимой 1908–1909 года перенес холеру, чуть не умер, и по выздоровлении продолжал находиться в училище. И вдруг с весны начал все хуже и хуже видеть. Ни училищные, ни другие петербургские врачи не обнаруживали никаких признаков болезни. Некоторые даже склонны были считать его заявления симуляцией (зачем?, для кого или от чего скрываться?). Так или иначе, училище выступило в лагеря в Красное село. И его отправили. На учебных стрельбах он, не видя ничего, стрелял в воздух. Потом перестал различать начальство, не отдавал чести и, наконец, стал натыкаться на деревья, людей, различные предметы. Повезли на осмотр к лучшим окулистам Петербурга, и те определили, что зрения у него осталось не более чем на 1,0 % от нормального. Иными словами, Андрюша был слеп. Природа заболевания выяснена не была, лечение было неизвестно. Ему дали белый билет на всю жизнь, одели в штатский костюм, вручили 100 рублей и посадили в вагон поезда с билетом до Полтавы. Мы ничего не знали, и вдруг посыльный из привокзальной гостиницы приносит папе записку в незапечатанном конверте. Брат невероятными каракулями писал, что находится в Полтаве, болен глазной болезнью и просит отца прийти к нему. Можно представить себе, что пережила вся семья. Забыть не могу момента, когда подъехал извозчик, и папа вывел чужого на вид, странно одетого, худого, в черных очках, человека. Казалось, исхода нет, старший сын отца останется слепой на всю жизнь. Это была трагедия. Но отец не сдавался. В ближайшие дни он повел Андрюшу к известному в Полтаве глазному доктору Глейзеру. Глейзер очень заинтересовался редким случаем заболевания и через день вместе с Андрюшей и папой поехал в Харьков к европейской знаменитости доктору Гиршману. Этот крупнейший специалист и к тому же бессребреник, заявив, что встречает в своей жизни только 2-ой раз подобную болезнь, взялся бесплатно лечить совместно с Глейзером брата Андрея. Конечно, денег это стоило, и немалых – лекарства, уколы, различные процедуры. Помогли родные. Будучи почти слепым, Андрюша на слух изучал латинский язык и в июне, т. е. почти через год с момента приезда в Полтаву сдал гимназический курс при 1-ой гимназии. Это дало возможность поступить в университет и осенью 1910 года отправиться в Москву на занятия. О дальнейшей его неудачной судьбе я расскажу в последующих главах моих воспоминаний.
Вторым по старшинству был Володя. В описываемое мною время он, кончив Михайловское артиллерийское училище, был выпущен подпоручиком в артиллерийскую бригаду, стоявшую в городе Люблине, одном из губернских городов, так называемого, Царства Польского (недалеко от Варшавы). Через несколько месяцев по ходатайству Володи его перевели в Екатеринослав в 7-ой мортирный дивизион. В скором времени он увлекся одной из дочерей командира своего дивизиона Артура Эмильевича Брунст. Вера Артуровна недавно кончила гимназию, была не красива, но очень интересна, а иногда просто обаятельна. Отец ее был против брака дочери с Володей, не имевшим копейки за душой, как говорили в те времена. Он надеялся, даже был уверен, что его вторая дочь найдет себе лучшего жениха. К тому же Володю считали легкомысленным молодым человеком, который не прочь покутить, подурачиться. Однако в первый год войны папаша Брунст, скрепя сердце, дал согласие на брак, и Володя женился. Увы! Сколько горя вытерпел бедный Володя из-за своей необдуманной женитьбы. Я не знаю ни его жизни в зрелом возрасте, не знаю, жив ли он, или умер, где и когда, но два года из времен его молодости были тесно связаны с событиями моей жизни. Об этом я напишу в свое время.


Наталья Митрофановна Шапаровская
Сестра Наташа. Кончив гимназию в 1911 году, Наташа поступила на службу в частную (с правами министерских) гимназию Вахниной классной дамой на 20 руб. жалованья в месяц. У нее время от времени были один-два урока с отстающими учениками младших классов. Жила она всю жизнь дома с мамой до самой ее смерти. Замуж не вышла, хотя была очень интересна, даже красива, но как-то чересчур застенчива, скромна, малообщительна. Более прямого, честного и благородного отношения к людям и вообще ко всем жизненным явлениям я не встречал. Глубокая религиозность, принесение в жертву своих интересов семье, каждому из нас и людям, которых она любила и уважала, бескорыстность всегда отличали нашу старшую сестру. С ранних лет молодости она болела ужасной болезнью – бронхиальной астмой. Всю жизнь она мучилась и продолжает беспрерывно страдать и сейчас этой неизлечимой, ужасной болезнью. За ней никто не ухаживал в молодые годы в банальном смысле этого слова. Ее глубоко и сильно любили, насколько я знаю, два человека. Но один, идеальнейший по характеру и, надо думать, по всем свойствам своей души, учитель семинарии, Афанасий Иванович, был до того уродлив, что трудно было смотреть на него, скрывая почти отвращение от его вида. Другой был молодой полковник лейб-гвардии Атаманского полка Власов Михаил Евграфович, сын симпатичнейшей старушки, жившей на Фабрикантской улице во 2-ой половине дома, занимаемого нашим квартирохозяином Чубко. Мишенька, так мы, мальчишки, его звали, был скромный, воспитанный офицер. Ему полюбилась наша Наташа. Казалось, знакомство идет к желанному для нашей семьи завершению. Но началась война, Михаил Евграфович срочно выехал в Петербург, пошел с полком на войну, и вскоре его не стало. Он погиб смертью героя. В более ранние годы с глубокой симпатией к Наташе относился Колин товарищ, кадет 7-го класса Куприянов, но ведь это был зеленый юноша, а позже он тоже погиб на войне. Ужасно безрадостно и беспросветно сложилась жизнь Наташи. С молодых лет и до настоящего времени это цепь страданий, и только глубокая вера и любовь к людям делает ее жизнь терпимой и осмысленной. А что бы было, если б у нее отняли это единственное и дорогое! Или, может быть, она нашла бы опору в марксистском мировоззрении?!!
|
|
Брат Коля. Кончил корпус в 1913 году уже после смерти отца. Имея прекрасные отметки, не захотел идти ни в артиллерийское, ни в инженерное училище. Крайне удивлено было начальство, когда он заявил на опросе, что намечает только пехотное, Александровское училище в Москве. И добавил: "Я хочу поступить в то училище, где учился мой отец". Я не разделял взгляд Коли. Ему по складу характера подходило инженерное образование. А мама согласилась. Она всегда соглашалась с нашими желаниями, если они не шли вразрез с нравственными началами, никому не причиняли вреда. Это же намерение Коли – учиться там, где учился папа, – маму даже растрогало. Итак, он стал пехотным юнкером, думая выйти затем в гвардию. Прошел год. Коля перешел на старший курс и после лагерного сбора должен был приехать домой на каникулы, вернее, в отпуск, как считалось в училище. Но, везде и всегда это проклятое "но", началась война, отпуска не дали, и осенью 1-го октября ускоренные подпоручики (последний выпуск царских полноценных офицеров, дальше были только прапорщики) были выпущены в полки русской Армии. Коля вышел в лейб-гвардии Кексгольмский полк. Полк этот был во время войны переведен из Варшавы в Петербург. С первых дней молодой офицер заявлял о своем желании немедленно отправиться на фронт. Люди сражаются за Родину, люди умирают, а он спокойно сидит в столице. И добился. Вне очереди отправили Колю с маршевой ротой в декабре 1914 года. А в мае его не стало. Он был убит во время отступления наших армий из Галиции. Прикрывая отступление основных сил, гвардейские части вторично были брошены на истребление в арьергардных боях. На десятки артиллерийских залпов противника наши войска отвечали единичными выстрелами. Живые солдаты поднимали винтовки убитых. Рано утром в безоблачную и безветренную погоду, когда, казалось, вся природа, все живое радуется и ликует, батальон кексгольмцев был брошен в атаку на превосходящие силы врага, имея задание задержать наступление хотя бы на несколько часов. Уже не те были гвардейцы, что в начале войны. Кадровый состав был почти полностью выбит. Встретив ураганный огонь противника, солдаты полегли. Захлебнулась атака. Подпоручик Шапаровский, вставая во весь рост, старался ободрить солдат, взывал идти вперед, следуя за ним. Но не все, далеко не все, преломив себя, бросились за своим командиром. Первое ранение в руку, вскоре второе в живот разрывной пулей. Брат упал, но еще не сразу скончался. Ужасней всего, что он в полном сознании видел, как его взвод, его рота стали быстро отступать. Был убит и командир роты. Денщик Коли, молодой парень, ярославец, был со своим офицером, а мог быть в обозе. Коля, обливаясь кровью, но как бы не чувствуя боли, вынул бумажник с дорогими реликвиями – карточками родных, снял часы – наследство отца и просил передать их мне. С ужасом посмотрел на отступающие в беспорядке взводы, перекрестился и умер. Совершенно невредимый солдат приполз к своей роте, вернулся к убитому Коле с другим молодым солдатом и вместе, под огнем, взяли тело командира. Через 2 дня Колин денщик – друг и герой – был отправлен с письмом командира полка и коллективным письмом ряда офицеров-однополчан в Полтаву к матери погибшего в бою смертью храбрых, к нашей маме.
А в это же время произошло следующее:
Артиллерийская часть, где служил Володя, после тяжелых боев была на отдыхе во Львове. Группа офицеров, среди которых был и штабс-капитан Володя, отдыхая и развлекаясь, сидела в одном из кафе этого красивого города. Издали раздались звуки похоронного марша. Один из артиллеристов вышел на улицу и узнал, что хоронят нескольких офицеров Кексгольмского полка. Зная, что брат его друга Володи служил в этом полку, Болотников, так звали этого офицера, поинтересовался фамилиями убитых. Услышав фамилию Шапаровский, он, не желая говорить брату, вошел в кафе, чтобы предупредить возможный выход Володи на улицу. Но опять "но" – оркестр, поравнялся с домом, где находилось кафе, и все артиллеристы вышли на улицу. Погибших везли в отдельных гробах, стройными рядами шли роты и батальоны. Было торжественно и чинно. Отдавая честь, офицеры молча смотрели на процессию. Только когда шествие удалилось, Володя, не зная, что он отдал последний долг родному брату, обратясь к Болотникову, сказал: "Вот и тут даже не все равны, нашего брата армейца убьют и закопают, а гвардейцев с такими почестями хоронят. Такова жизнь". Болотников промолчал. Артиллеристы продолжали выпивать. Только через несколько дней, уже во время боя Болотников сообщил Володе о смерти брата. Этот печальный эпизод мне рассказал через два года лично Болотников.
Следующим по старшинству был я. Но о себе я писал и буду еще писать и писать. В этом цель моих воспоминаний, которые, я думаю, будут не совсем безынтересны для моих детей, а может быть, и внуков.
За мной шел Сережа. Самый простой, открытый и жизнерадостный из всей нашей семьи. Бедный Сережа, он кончил жизнь самым молодым. Окончив корпус в 1916 году в разгар мировой войны, он в июне месяце отправился в Петербург, вернее, Петроград в Павловское военное училище и 1-го декабря 17 лет от роду стал прапорщиком лейб-гвардии Измайловского полка – полка, верного своим старым традициям, создававшимся со времен Великого Петра. В этом овеянном славою полку служил дед – отец матери и совсем недавно погибший в бою наш двоюродный брат – подпоручик Марик (Матвей) Витковский. Я, будучи на геодезической практике, при переходе на 2-ой курс Путейского Института в деревне Пязелево (в 2-х верстах от Павловска) неоднократно встречался с Сережей. То он вырывался из лагерей и приезжал ко мне, то я отправлялся в Красное Село и любовался красивым, очень высоким юнкером, шедшим в первых рядах в 1-ой роте павловцев в, так называемой, роте Его Величества. Мы садились где-нибудь в парке, и я ощущал что-то похожее на угрызение совести, думая, что Сережа, полный жизни, совсем еще мальчик, скоро будет на фронте, а я, старше его на два года, как тогда говорили, оказался в тылу. Но он был счастлив. Кроме бессознательной и неопределенной любви к Родине, он горел желанием отомстить врагам за раннюю смерть горячо всеми любимого Коли. Но порой этот живой и такой непосредственный юноша на секунды становился грустным, точно зная, что недолго ему жить на этом свете. В декабре уже офицером он приехал на несколько дней в Полтаву. 6-го числа в корпусе, хоть и скромно, отмечался день годовщины. Сережа помчался на вечер, не отдохнув с дороги, танцевал, был особенно весел. Дома он был мало. Ему хотелось шума, оживленного общества, хотелось взять от короткой жизни как можно больше, не думать о предстоящих тяжелых днях. Мы с ним сфотографировались вдвоем у лучшего фотографа.
|
|
Я смотрю сейчас на карточку Сережи. Как легка должна была быть его жизнь! Его любили все, он был так добр и ласков с окружающими, не искал разгадки бытия, не углублялся в истины философии. Вместе с тем он был умен, способен, хотя и лень не была чужда ему. Вскоре он уехал в Петроград и оттуда на фронт. Шел семнадцатый год. Февральская революция и знаменитый приказ №1 в корне изменили состояние русской армию. По существу, армия и до этого совершенно непохожая на кадровые части, после февраля стала разлагаться. Это уже не была армия. Не мне описывать и анализировать исторические события, да они уже достаточно полно освещены и официальной наукой, и во многих мемуарах современников. Я касаюсь этих событий, поскольку они связаны с жизнью моей или близких мне людей. Вообразите 17-тилетнего командира бородатых солдат, часто просто крестьян, спешно обученных и одетых в солдатскую форму, жизнь которых в условиях войны нередко зависит от действий юноши. Этот контраст в возрасте, опыте жизни, в привычках вообще нелегко себе представить незнающему человеку. А в создавшейся после революции обстановке, при обострившихся отношениях между крестьянами и рабочими с одной стороны и "барами", золотопогонниками с другой, положение молодого командира было просто трагичным. Неудавшееся наступление ничего не понявшего в быстро развивающихся событиях Керенского, события внутри страны, провалившийся мятеж Корнилова – все это способствовало дальнейшему превращению Армии в массу вооруженных людей, стремящихся в значительной, если не в основной своей части, домой к воле, к земле, к семье, к бабам в теплой избе. И не только мыслями стремящихся, а физически. Поезда были забиты солдатами, бросившими все и едущими в тыл.
Поздней осенью ночью, уже после Октябрьской революции, к нам постучал кто-то в окно (я был в то время в Екатеринославе). Сначала тихо, потом все громче. Мама сама вышла открыть дверь. На ступеньках крыльца стоял высокий человек в солдатской шинели без погон с поднятым воротником. Темнота была полная, улица в то время уже не освещалась. Только материнское сердце могло почувствовать присутствие сына. Сережа пробыл дома не больше часа. Его ждали товарищи. Он ехал далеко и не мог в тяжелый, вероятно, самый трудный момент своей короткой жизни не повидать мать, не получить от нее благословение перед последним этапом своей жизни. Я не политик и не историк и не думаю высказывать свои "за" и "против", говоря о событиях, развивавшихся в те исторические годы на широких просторах России. Но не могу не высказать свое мнение по одному серьезному вопросу – вопросу о человеке, о людях, которые в массе творят историю. В то героическое, с точки зрения истории, время совершался страшный процесс. Было два лагеря, резко разделенных в своих действиях целями, стремлениями, мировоззрением! Их разделяла кровавая вражда. Примирению, совместной жизни, как сейчас говорят, сосуществованию не было места. Или – или. Конечно, не все жители страны входили в тот или иной лагерь, не все, даже формально принадлежавшие к определенной стороне, активно участвовали в событиях. Много было не осознавших себя, нейтральных, окопавшихся, просто не думавших над происходившими событиями мирового значения. Но все подлинно активное, мыслящее, все, пусть объективно неправое, но субъективно честно отстаивающее свои воззрения, все, даже сугубо карьеристское, эгоистичное, но волевое принимало живое, большей частью непосредственное участие в грозной, беспощадной борьбе, во взаимном физическом истреблении друг друга. И как много среди этих сильных и мужественных людей было молодежи. Волею судеб, правящих классов, противоречий или конкуренции между великими державами целые годы шло уничтожение людей ряда стран. Миллионы молодых, самых здоровых солдат и офицеров пали в тяжелых боях, стали калеками, слепыми от удушливых газов, погибли от болезней. И вот – гражданская война. Те же солдаты, матросы, рабочие, интеллигенты, офицеры безжалостно истребляли не в идеологическом, но в физическом отношении себе подобных. В самом деле, разве пробиравшийся на Дон офицер, а подчас студент и даже гимназист, воспитанный с детства в духе любви к России, к героической стране, к ее истории, культуре, литературе и искусству, к ее народу, наконец, к природе великой страны, думал о классовой мести или о сохранении поместий, фабрик и заводов в своих руках или во владении своего отца? Конечно, нет. В его представлении гибла Россия, гибли все ценности, все, что было достигнуто великим народом на протяжении столетий путем труда и таланта. И ему казалось, что он должен отстоять все дорогое и привычное ему перед нахлынувшей лавиной. Пусть даже ценой своей жизни. И с той, и с другой стороны лучшая в моральном отношении масса людей шла в бой, не думая о своих личных интересах, а в порядке торжества, защиты своих, далеко не всегда ясно осознанных идей. Горькое разочарование, надо думать, охватило субъективно честную молодежь белых армий, вернее, оставшуюся в живых после первых кубанских походов и боев ее часть, когда они увидели бесталанность, соперничество и безыдейность ничему не научившихся и ничего не понявших в происходящих событиях вождей белого движения. Были среди этой молодежи Рощины и ему подобные, люди интеллигентные и образованные, были малообразованные, не анализирующие окружающую обстановку, были и почти дети, умеющие только храбро умирать, глубоко не думая о смысле событий. К последним, думаю, принадлежал и безумно любящий жизнь Сережа. Через несколько месяцев к маме как-то дошло сообщение о смерти этого жизнерадостного и такого доброго бесхитростного сына.
Я отклонился от намеченного порядка воспоминаний. Продолжаю по принятому плану.
Брат Юра. В детстве очень некрасивый, наш младший брат был очень способным, вдумчивым учеником. Это был редкий тип первого ученика, бравший первенство не в силу зубрежки или особого прилежания, это был много читавший, развитой не по летам, с легкостью державший первое место кадет. После смерти папы, перестав быть приходящим, он и в стенах корпуса находил занятия себе по духу, и, хотя не был тихоней, но в шалостях сверстников, как правило, участия не принимал. Редко что могло оторвать его от любимой книги. Воскресный отпуск он проводил дома; был очень ласков в обращении со всеми домашними, особенно с мамой. Из года в год наружность его выравнивалась, и в 17 лет это был интересный юноша с правильными чертами лица. Кончив корпус уже после революции (это был последний выпуск), он отправился учиться в Одесский Политехнический институт. В дороге с серьезным, как вполне взрослый человек, но наивным и непрактичным в жизни абитуриентом произошел весьма неприятный случай. Юра лег на второй полке, а вещи – корзину – поставил над собой на третьей. Чтобы ее во время сна не стащили, он обвязал корзину веревкой, прикрепив конец к своей руке. Проснувшись утром, он с удовлетворением увидел корзину на прежнем месте. "Все это враки, что вагоны кишат ворами и ночью вовсе нельзя глаза закрывать", – подумал Юра. Но, увы, когда, подъезжая к Одессе, он стал снимать вещи, то обнаружил, что стенка корзины вырезана и содержимое ее исчезло. Все, что было приобретено с таким трудом (он два года занимался по воскресеньям с гимназистом-младшеклассником) – куртка, брюки, белье, ботинки, все, кроме книг, досталось в руки опытного вагонного вора. В Одессе помогли родственники, семья двоюродного брата, принявшего Юру как близкого родного. Недолго учился он в институте. Не до занятий было в то время, все шло колесом. Юра вернулся домой в Полтаву. Брал уроки сапожничества у ставшего квалифицированным мастером бывшего полковника и георгиевского кавалера Ивана Петровича Бересторудь, а потом в качестве подмастерья немного и подрабатывал. На грех женился, будучи сам по возрасту ребенком, на еще более молодой девице Ляле Старицкой, дочери нашей домовладелицы и соседки Ольги Викторовны. Через неделю-другую после свадьбы молодая жена заболела, слегла и больше не вставала с постели. У нее, хрупкой кисейной барышни, только что кончившей институт благородных девиц, обнаружилась чахотка (туберкулез легких), принявшая весьма острую форму. Юра, как нянька, ухаживал за ней день и ночь, не отходя от кровати. Измучился, бедный, стал еще более серьезен, повзрослел. Служил в каком-то учреждении. В 1921 году я уговорил его поехать со мной в Киев жить совместно. По приезде Юра поступил делопроизводителем в одно из киевских учреждений. Вечерами мы с весьма незначительным материальным успехом занимались сапожным делом, ремонтировали обувь редких случайно зашедших посетителей. Раза три имели заказ на изготовление новых туфель. Два заказа испортили, но деньги, очевидно, видя в нас неумелых интеллигентов, нам, несмотря на категорические отказы, уплатили. Потом Юру призвали в армию, направили курсантом в училище, но через 2 или 3 месяца полностью освободили по зрению от военной службы. Он поступил в Институт Народного хозяйства, бывший Коммерческий. Занимался исключительно добросовестно. Одновременно служил в в Горкомхозе. Студентом женился на двоюродной сестре моей второй жены. Изучал языки. Много читал. Закончив Коммунальное отделение Института, вскоре выявил себя как квалифицированный специалист по планировке городского хозяйства. Написал книгу по специальности, вызвавшую хвалебные отзывы. В 1931 году был вызван в Москву, работал на ответственной работе в Гипрогоре или Гипрограде. Совместно с крупным киевским инженером написал вторую книгу, но выход ее в свет не увидел. В начале 1933 года, живя под Москвой в дачном поселке "Клязьма", заболел воспалением легких и в несколько дней сгорел (тогда не было сульфидина и позднейших средств против пневмонии). Я в дальнейшем буду неоднократно писать о Юре, его тяжелой личной жизни, об его несколько странном, но благородном характере. Сейчас скажу не о нем, но о факте, связанном с Юрой как автором второй книги. Низкой души человек, пожилой инженер Хаустов, узнав о смерти брата, по выходе в свет книги весь гонорар присвоил себе, заявив, что он авансом выплатил причитавшиеся Юре деньги. Припертый к стенке фактами, Хаустов что-то обещал, но больше на горизонте не появлялся.
Последней в нашей семье является наша сестра Верочка. Она родилась в 1903 году. Сейчас, после многих лет работы, большей частью в библиотеке имени Ленина в Москве, Верочка вышла на пенсию и, по ее словам, возродилась к новой жизни. Она видит, как распускаются деревья, как цветет сирень, она вместе с мужем посещает концерты всех приезжих знаменитостей, она читает, гуляет, словом, пользуется жизнью. И ни на минуту не забывает своих близких, систематически поддерживает, морально и материально, сестру Наташу, скрашивая поистине ужасную жизнь нашего старшего из оставшихся в живых члена семьи Шапаровских. Да, из такой многочисленной семьи нас осталось трое. Две сестры и я. Почему именно я? Со всей искренностью, совершенно обдуманно и многократно перепроверено (?) я заявляю на страницах своих воспоминаний, что считаю себя худшим и наименее достойным и подходящим для долголетней жизни из всех братьев. Ни поразительной заботы о семье в ущерб своим интересам, чем отличался Андрюша (я не забываю при этом его ужасно тяжелого характера, причинившего столько страданий семье, а ему еще в большей степени, что объясняется его болезнью, делавшей его порой не совсем нормальным), ни притягательной силы Володи, которого все окружающие любили, ни энергии и воли, соединенной с кротким и спокойным характером и необыкновенной добротой Колечки, ни простоты, ласковости и жизнерадостности Сережи, ни ума, трудоспособности и энергии Юры я не имел и не имею. Я эгоистичнее, сентиментальнее, ленивее, несмотря на свою излишнюю разговорчивость, переходящую порой в болтливость, скрытнее в своих переживаниях, чем все братья. Я не обладаю, в отличие от братьев, храбростью в общепринятом смысле этого слова, я всю жизнь болею тысячами самых различных болезней. Прочтите первые страницы моих воспоминаний – ведь такие люди встречаются не так часто?
И вот я остался один. Надолго ли? Это не важно, важно то, что их давно нет, а я, старый уже человек, пока все еще скриплю на этом свете. Почему?
Надолго оторвавшись от хронологии записей, я возвращаюсь к давно прошедшим временам.
Итак, мы поселились на Фабрикантской улице. В квартире жили мама, Наташа и Верочка. Мы, т.е. я, кадет 7-го класса, Сережа 5-го и Юра 3-го класса приходили домой только после занятий в субботу и оставались до вечера в воскресенье. Одна их четырех комнат сдавалась. Жила в ней в то время учительница гимназии Калерия Федоровна. К.Ф. ждала приезда жениха из Нижнего Новгорода, вела тихий, скромный образ жизни, семью нашу не стесняла. В этом году, не знаю, по какой причине, я привлек внимание на кадетских вечерах общепризнанных "цариц бала" – Вали Оголевец, Наташи Власенко и других, был им представлен и получил приглашение бывать в нескольких домах. Не было почти субботы, чтобы мне не приходилось отправляться в гости. Особенно часто посещал я с другими кадетами гостеприимную семью Оголевец. Это были весьма зажиточные люди, купцы, звавшие на еженедельные вечера только офицеров, кадет и хорошо одетых "приличных" студентов. Собирались, танцевали, играли в различные игры, но гвоздем вечера был обильный кушаньями и, увы, напитками ужин. К стыду своему должен признаться, что в этом доме я начал из мальчишества, из желания не отставать от взрослых пить водку. Сначала, вспоминая детство и пьющего отца, явившись домой, я раскаивался, принимал решение не пить больше…. Но вскоре, получив приглашение от папаши и хорошенькой дочки Вали, отправлялся в уютную квартиру, где уже почти все завсегдатаи были в сборе и, что греха таить, с нетерпением ожидал обильного ужина и не менее обильного возлияния. Бывая в семье Наташи Власенко, я тоже не мог отказаться от выпивки и закуски. А какие несравненные блины пекла мать Наташи! А какие наливки и настойки домашнего приготовления подавались на стол! Так мы, безусые юноши-кадеты, втягивались, если не в пьянство, то в преддверие к нему. Но вот что, все же, надо отметить. Ни я, самый младший из одноклассников, посещавших эти обеды и ужины, ни Здановский, ни Кальченко, ни Самовский, словом, никто не только не выходил из рамок приличия, но, согласно твердому правилу, никто не должен был абсолютно ничем отличаться от непьющего человека; разрешалось быть чуточку веселее и непринужденнее. Это было правило чести полтавского кадета. Нам говорили, что так ведут себя гвардейские офицеры. Но, когда поздно вечером я, выходя из гостей, садился на извозчика, глаза мои заволакивал туман, и стоило больших сил, чтобы не заснуть или не свалиться на сугробы полтавских мостовых с санок или пролетки. Извозчику я давал лишний пятак, шел от ворот до парадного нашего дома твердым шагом и звонил так коротко, что, казалось, никто не проснется. И действительно, Феня, наша добросовестная прислуга, искренне привязавшаяся к семье, часто продолжала спать на кухне. Но мама уже шла открывать. Она по шуму шагов по деревянным мосткам тротуара уже знала о моем возвращении. Я быстро ложился, засыпал и утром шел в корпус к обедне всегда со свежей головой, независимо от количества выпитого.
По воскресеньям, если я ходил в гости, то только к нашим друзьям Погореловым и только вместе с Наташей, и оттуда прямо в корпус.
При всей влюбчивости своей натуры, при широких знакомствах с хорошенькими барышнями, в этот последний год моего пребывания в корпусе я не знал сердечных влечений. То ли образ Лели еще где-то гнездился в глубине сердца, то ли произошло переключение на водку, но ни невинные заигрывания, ни обдуманное кокетство меня в эту пору не волновали.
Средняя школа окончена, я свободный гражданин (по сути, мальчишка), думаю о своей будущности. И тут развернулись великие события. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. Дипломаты стран Европы проявляли исключительную активность – ультиматумы, ноты, выступления. Тучи сгущались все больше. Началась мобилизация. Находившиеся в лагерных сборах войска спешно возвращались в свои зимние стоянки. В воздухе явно запахло войной, она надвигалась неотвратимо. И 19-го июля 1914 года жители Полтавы в 5 часов вечера группами становились перед свеженаклеенными небольшого формата листками:
"Германия нам объявила войну
Военный министр генерал от кавалерии Сухомлинов".
Конечно, разные люди и группы людей иначе реагировали на это сообщение. Но всех оно взволновало. Как ни ясна была в последние дни неизбежность войны, но кратко формулированное известие о начале ее действовало ошеломляюще. Это была грань. Это было деление жизни страны, общества, отдельных людей на "вчера" – мирное время и "сегодня" – война. И надолго осталось это деление. "Это было в мирное время", – говорили все, касаясь общественных событий или личной жизни до 19-го июля 1914 года. Было много манифестаций, речей, шума, искреннего или напускного, фальшивого выражения патриотизма. Думается, что в первое время больше было искреннего, подлинного патриотизма, а потом….
Не ушел от общего подъема и я. Но в ответ на мое прошение о зачислении юнкером в Михайловское артиллерийское училище пришел ответ, что, так как при медицинском осмотре два месяца тому назад меня признала корпусная комиссия негодным к военной службе, то я не могу быть принят в училище. Было ли это заключение врачей дано, чтобы снизить число кадет, добровольно не пожелавших продолжать военную карьеру или они, так и не определив существа моих болей в области живота, действительно не считали возможным быть мне военным – не знаю, но я снова стал думать о поступлении в Университет.
Шли первые месяцы войны. Гибель армии Самсонова в Мазурских болотах, наше неудачное наступление в Восточной Пруссии резко изменили обстановку на западном фронте. Немцы подходили к Варшаве. Геройские сибирские стрелки прямо по выходе из вагонов брошенные в бой отстояли на этот раз столицу Польши. Однако положение оставалось тревожным. Беженцы из польских губерний появились во всех городах России. В эти дни мамина сестра тетя Надя с дочерью Марусей, оставив город Седлец, где жили много лет, приехали на жительство в Полтаву. Не в первый раз встречали мы тетю Надю. Еще при жизни ее мужа Николая Николаевича Свяцкого, бывшего правоведа, служившего в Седлеце, тетя с Марусей гостила у нас две недели. Это было в 1909 году во время полтавских торжеств. Маруся была меньше, чем на год моложе меня. Тогда мы как-то не понравились друг другу. Очень большой контраст представляла наша простая семья с весьма нарядно и элегантно одетой красавицей тетей и ее далекой от наших детских забав и интересов толстушкой дочкой. Ее вкусы и привычки, игра в "диаболо" были несозвучны нашему огороду, лапте, всему укладу нашей жизни. Мы расстались без грусти. После смерти мужа тетя Надя хотела переехать на постоянное жительство в Полтаву. Она очень любила нашу маму, много хорошего давшую ей в далекие детские годы. К нашему отцу тетя тоже относилась с большим уважением. Но, когда они в 1911 году перебрались к нам и вскоре, наняв поблизости небольшую квартирку, стали обосновываться на долгое время, всем стало ясно, что жизнь тети Нади в Полтаве не наладится. Мы жили очень скромно, почти никто у нас не бывал, питались мы сытно, но просто, весь уклад жизни был размеренный и скучноватый. Свяцкие любили шум, общество, веселье, поклонение кавалеров. Словом, это было не то, "совсем не то". И пошли недомолвки, плохо скрываемая оппозиция взглядам и вкусам друг друга. Проживши год, они уехали восвояси. С Марусей мы по-прежнему не сошлись, даже больше, не симпатизировали друг другу. Но странное дело, иногда, случайно коснувшись ее уже почти развитой груди, я испытывал неосознанное волнение. И должен сказать, противоположные чувства – неприязни и физического влечения к ней в отдельные моменты уживались во мне. Один раз я был взбешен. Маруся вечером взяла 4 тома "Войны и мира" и через 3 дня принесла, сказав, что прочла полностью. О нашем не изумлении, но возмущении я впоследствии вспоминал вместе с ней неоднократно. Они уехали, и все, кроме мамы и Наташи были рады.
Но вот в августе 1914 года тетя с Марусей приехали к нам в третий раз. Папы уже не было. Им была предоставлена комната, где прежде жила вышедшая замуж Калерия Федоровна. Марусе было почти 17 лет, мне несколько больше. Она выровнялась, стала очень хорошенькой, пикантной. С первых же дней у нас завязались романтические отношения. Вскоре мы все больше стремились уединиться, гуляли вечерами по тенистым переулкам, обнявшись… Любовь разгоралась. В сентябре я поехал в Петербург отвести Верочку в Институт. Мы приехали к другой маминой сестре, тете Вере. И там совершенно случайно, не буду рассказывать, как это произошло, я узнал, что Маруся еще с отроческих лет обожает своего родственника по отцу Волю Латынина. Взаимное влечение между ними не подлежало сомнению. Я был огорчен и обозлен. Вернувшись в Полтаву, я вызвал Марусю на объяснение. В доказательство изменившихся чувств Маруся, поклявшись на золотом крестике в верности нашей любви, сняла с руки золотое колечко с бирюзой, подарок Латынина, и отдала его мне. Казалось, сомнения развеялись, роман будет развиваться своим чередом. Но в глубине сердца остался холодок, трещина. А жаль! Кто не был в Полтаве, не видел ее уютных улиц и переулков, спрятанных в густой зелени чистых, светлых домиков с крылечками, на которых так и манит посидеть, – тот не испытал в полной степени всегда свежего, всегда молодого и нового чувства влюбленности. Теплый, теплый, насыщенный пряным чувственным ароматом маттиолы и табака воздух, пробивающийся сквозь листву и слегка дрожащий свет горящего на перекрестке фонаря, не так видимый, как ощущаемый девичий образ – создавали почти сказочную обстановку. Мы молча, прижавшись друг к другу, наслаждались окружающей нас красотой и изредка обменивались нежным, еще целомудренным поцелуем. Время от времени, заслышав быстрый топот босых ног, резко меняли позу. – "Последние известия, только что получены и очень интересные", – громко, на высоких нотах выкрикивал пробегавший с экстренным выпуском газеты мальчишка и вслед за тем следовало четкое: "Наши войска заняли такой-то город в Галиции!". Мысли переключались, в сказочную жизнь врывалась реальная действительность. Война! Как-то, вернувшись домой и усевшись в комнате тети Нади на диване, мы – тетя, Наташа, Маруся и я обсуждали последние известия с фронта. У тети Нади в действующей армии был жених, пожилой капитан пехотного полка. Писем от него не было значительное время. Задумавшись, мы сидели молча, каждый думал о своем. И вдруг за окном что-то быстро промелькнуло. "Щось пробігло", – послышался голос со двора. Как это образно и характерно! Скажите по-русски "что-то пробежало". Это неопределенно, но обыденно. А по-украински в этих словах заключается нечто таинственное, сверхъестественное, какой-то скрытый смысл. Тетя Надя сильно почему-то взволновалась, предложила разойтись и ложиться спать. Мы не придали этому незначащему эпизоду какого-либо значения. Но какие совпадения бывают в жизни, точно в старинном английском романе. Через несколько дней тетя Надя получила сообщение, что ее жених погиб в бою и именно в тот день, когда "щось пробігло".
Я не однократно говорил о своих несколько лет не проходивших болях в области живота. Среди лета я ездил в Харьков, побывал у известного врача. Маститый терапевт поставил диагноз – хроническое воспаление мочеточников, прописал воды и еще какие-то лекарственные средства, запретил поднимать тяжести. Интересно, что когда я робко заметил: "А не аппендицит ли у меня", Френкель снисходительно улыбнулся и сказал, что это вовсе исключено. Воды я пил, лекарства принимал, никаких физических усилий не производил, но … все оставалось по-прежнему. Когда я поехал осенью в Петроград (это была одна из целей моей поездки), по совету тети Веры обратился к профессору Левину, и тот наконец-то четко и определенно дал заключение о наличии у меня хронического аппендицита, требующего как можно скорее проведения операции. Списались с тетей Дуней, папиной сестрой, жившей в Киеве. В октябре я, простившись с семьей и особенно нежно с Марусей, отправился в Киев.
Ссылки на эту страницу
| 1 | Авчинников, Владимир Александрович
[Авчінніков, Володимир Олександрович] (1896-?), поручик, воспитанник ППКК (1913) |
| 2 | Воспоминания полтавчан
[Спогади полтавців] - пункт меню |
| 3 | ППКК - воспоминания питомцев и преподавателей
[ППКК - спогади вихованців і викладачів] - пункт меню |
| 4 | Указатель книг и статей по названиям
[Покажчик за назвами] - пункт меню |
| 5 | Шапаровский, Александр Митрофанович
[Шапаровський, Олександр Митрофанович] – пункт меню |
| 6 | Шапаровский, Андрей Митрофанович
[Шапаровський, Андрій Митрофанович] воспитанник ППКК (1908) |
| 7 | Шапаровский, Георгий Митрофанович
[Шапаровсmкий, Георгій Митрофанович] (1901-?) – воспитанник ППКК (1918) |
| 8 | Шапаровский, Николай Митрофанович
[Шапаровський, Микола Митрофанович] (1895-1915), подпоручик, воспитанник ППКК (1913) |
| 9 | Шапаровский, Сергей Митрофанович
[Шапаровський, Сергій Митрофанович] (1899-1918), поручик, воспитанник ППКК (1916) |